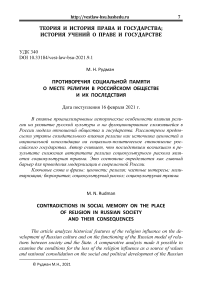Противоречия социальной памяти о месте религии в российском обществе и их последствия
Автор: Рудман Марк Наумович
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (9), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы исторические особенности влияния религии на развитие русской культуры и на функционирование сложившейся в России модели отношений общества и государства. Рассмотрены предпосылки утраты созидательного влияния религии как источника ценностей и национальной консолидации на социально-политическое становление российского государства. Автор считает, что последствием возникшего в результате снижения авторитета религии социокультурного раскола является социокультурная травма. Это состояние определяется как главный барьер для проведения модернизации в современной России.
Ценности, религия, частные интересы, милитаризация, бюрократия, социокультурный раскол, социокультурная травма
Короткий адрес: https://sciup.org/142232178
IDR: 142232178 | УДК: 340
Текст научной статьи Противоречия социальной памяти о месте религии в российском обществе и их последствия
Особенность развития русской культуры в эпоху становления нацио‐ нальной государственности заключается в постепенной утрате нравственно‐ го авторитета православной церкви, когда‐то давшей мощный стимул к объ‐ единению русских земель. Для европейских народов, под влиянием которых происходило становление общественного сознания русской политической элиты, мощным стимулом духовно‐психологической мобилизации на пре‐ образование общества в течение почти тысячелетия (со времен «папской революции» XI в.) являлся именно авторитет церкви, сначала католической, а затем, как следствие ее государственной деградации, протестантской. Со‐ держание протестантского вероучения обусловило становление высочайше‐ го авторитета индивидуального социального творчества, сопряженного с пронизывающей религию идеей индивидуальной ответственности.
Именно в этом качестве христианская религия, обладавшая громад‐ ным нравственным авторитетом, стала основным фактором развития духов‐ ной культуры, то есть воспроизводства систем национальных культур. Рос‐ сийская специфика относительно этой модели развития проявилась в на‐ сильственном уничтожении этого авторитета отечественными самодержца‐ ми в XVI–XVIII вв. Неизбежная потеря нравственных ориентиров в результате такого перераспределения ролей и обусловила состояние раскола, в кото‐ ром российское общество пребывает до настоящего времени. Его ведущим и опасным для воспроизводства национальной культуры следствием являет‐ ся удивляющая всех иностранных наблюдателей личная пассивность, оказы‐ вающая решающее влияние на особенности экономического и политическо‐ го строя. Экономика и тем более политика считаются делом государства, от которого общество охотно отстраняется, предоставляя государственной бю‐ рократии с предельной примитивностью, помноженной на произведенное неверием в свои силы российское «долготерпение», но с пафосными лозун‐ гами определять по своему «самодержавному» разумению расходование всегда казавшихся неограниченными природных и людских ресурсов.
Отдельной стороной такого специфического варианта развития являет‐ ся содержание воспроизводимых с XVI в. лозунгов, отражающих стремление подчеркнуть свою независимость и великодержавность, но не способных стать идеологией, предполагающей логическую опору на истинную картину явлений и пробуждение исторического оптимизма у людей, принявших ее содержание. Духовно и политически пассивным обществом предложенные государственной бюрократией, на первый взгляд, пафосные идеи воспри‐ нимаются равнодушно и настороженно, что и свидетельствует о расколе. Эта настороженная и пессимистическая пассивность вызвана, в свою очередь, расколом между ценностями служения обществу и историческим воспроиз‐ водством в каждом поколении привычки безусловного подчинения милита‐ ризованному государству, служило‐вотчинная элита которого регулярно и с увлечением убеждает население в том, что Россия в очередной раз окруже‐ на врагами.
В этом социальном пессимизме, сознательно поддерживаемом госу‐ дарственной бюрократией с целью сохранения иллюзии своей социальной полезности, заключается главное препятствие для мобилизации личностной энергии к участию в социальном творчестве во всех сферах, необходимом для становления национальной культуры. Это состояние до настоящего времени ярко характеризует состояние русской культуры. Оно получило наименование социокультурной травмы, или социокультурного раскола, ключевой признак которого – постоянно, из поколения в поколение воспроизводимая социумом неспособность к разрешению социокультурных противоречий [1, с. 702].
Это состояние обнаруживается в форме не решенного до сих пор про‐ тивостояния парализующих и разрушающих друг друга социальных сил, имеющих противоположные интересы [2, с. 187]. Противоречия социальных смыслов, определяющих существование различных социальных групп – «го‐ сударевых служащих» и противостоящих им «подлых» слоев, содержащих бюрократию своим трудом, но не ощущающих с ней культурного, ценност‐ ного единства, формируют также воспроизводящийся в каждом новом по‐ колении тип личности с парадоксальным «расколотым» сознанием.
Социокультурный раскол выражается в характерных для всех полити‐ чески значимых слоев российского общества иррациональных стереотипах сознания, гарантирующих упрощенное рассмотрение реальности, искажаю‐ щее ее объективное состояние. Но стремление к такому искажению воспро‐ изводится потому, что социальная реальность для общественной психологии представляет собой морально неприемлемое, несправедливое состояние, в котором индивидуальное и общественное сознание пребывает лишь пото‐ му, что государственная бюрократия более ничего ему не предлагает.
Если сопоставлять эволюцию социальных ценностей западных госу‐ дарственно организованных наций и России, то выясняется, что источником этих ценностей на Западе являлась христианская церковь, эволюция которой от католицизма к протестантизму и связанное с этим интеллектуальное, нравственное и социально‐правовое развитие привели к появлению запад‐ ных феноменов гражданского общества и опирающегося на него нацио‐ нального государства, ставших системными двигателями социального про‐ гресса. Российская же специфика состоит в том, что в кризисные периоды истории «государь» и состоящая при его «дворце» служилая бюрократия, движимая, при ближайшем рассмотрении, паразитическими интересами, перехватила у религии функцию выработки ценностей и жизненных ориен‐ тиров. В период становления русской государственности религия по истори‐ чески обусловленным причинам утратила доверие общества, принявшего сторону государства в этом конфликте.
Содержание отношений церкви и государства в историческом разви‐ тии характеризуется следующими противоречиями.
Во‐первых, противоречиями ценностей. Определяя социально значи‐ мое поведение, они стали причиной конфликта между повседневными ду‐ ховными потребностями людей и стремлением церковной бюрократии пользоваться благами, которые предоставляет публичная власть. Проповеди церковников о мире, любви, национальном единстве с XVI в. используются с целью мобилизации населения на борьбу с оппонентами официальной церкви. Первым примером такой разрушительной для общества ситуации стала борьба нестяжателей и иосифлян, воспользовавшихся поддержкой ве‐ ликокняжеской власти для победы в конфликте, интерес в котором у побе‐ дителей был сугубо материальным, что было очевидно для современников. И эта политика Русской православной церкви стала традицией, активно под‐ держиваемой государством до сих пор.
В социальной памяти запечатлен образ священника – духовного лидера, который своим авторитетом способен поддержать людей в моменты жиз‐ ненных и душевных кризисов. А официальная церковь отстаивает интересы учреждений церковной власти, подменяющей идеи возрождения нравствен‐ ности и духовности необходимостью смирения перед социальной несправед‐ ливостью с целью получения доступа к управлению широкими слоями насе‐ ления. В качестве примера можно привести призывы современных религиоз‐ ных деятелей «чтить память палачей и их жертв». Такая активно распростра‐ няемая и принимаемая обществом политика не является идеологией и поро‐ ждает беспомощность общества перед любыми «капризами» государства, не давая людям в тяжелейших жизненных ситуациях моральных сил для творче‐ ского поиска путей выхода из них.
Во‐вторых, противоречия между традиционными формами христиан‐ ского, гражданского поведения с забытыми смыслами религиозных ритуа‐ лов. Эмоциональная тяга формально верующих к старинным обрядам с их внешними атрибутами демонстрирует феномен «обрядоверия», проявляю‐ щийся в очевидном отсутствии понимания христианского смысла участия в таинствах, посещения литургии, построения отношений между христианами на принципах любви. Примечательно, что он был усвоен и «советской циви‐ лизацией», идеологическая слабость которой выражалась в нежелании как партийной элиты, так и всего прошедшего мощную советскую идеологиче‐ скую обработку общества всерьез изучать и понимать идеи марксизма, на ко‐ торых формально строилась вся советская государственность. После 1991 г. аналогичное отношение демонстрируется обществом и возрождающейся государственной бюрократией к ценностям либерализма, являющимся мо‐ ральной и политической основой социального прогресса. Критикуемый большинством современной властной элиты и научного сообщества России либерализм является идеологической основой конституционного строя, от‐ ражающего способность общества к достижению компромисса как условия развития. Нежелание усваивать его ценности провоцирует повторение си‐ туации с отсутствием именно ценностных стимулов к развитию, которые за‐ падному обществу Нового времени дала именно религия, точнее, вдохнов‐ ляемые ею подвижники борьбы за сохраняющиеся до настоящего времени ценности индивидуальных прав.
В‐третьих, противоречия церковной власти между священниками, стремящимися воплотить идеал христианского служения пастве, и церковной элитой, ориентированной на учреждения светской власти. Подрыв доверия к религиозным организациям Русской православной церкви обусловлен крити‐ ческим отношением новых поколений, не переживших опыта государствен‐ ного преследования церкви, но наблюдающих в социальных сетях коррупци‐ онные скандалы церковных чиновников, выступающих с неожиданными по‐ литическими заявлениями и требующих предоставить им публичный кон‐ троль за «духовными скрепами» современного общества. Противоречие здесь проявляется в том, что сохранение в социальной памяти образов ду‐ ховного подвижничества и простоты священнослужителей не поддерживает‐ ся реальными примерами социального служения и самопожертвования со‐ временного поколения церковных деятелей.
В‐четвертых, противоречия между субъективным переживанием исто‐ рических событий, основанным на естественном принятии большинством членов общества духовного лидерства служителей церкви, вызывающем ожидание восстановления интегрирующей роли «православных ценностей» в организации жизни, и прерванной традицией такого лидерства в историче‐ ской практике (вторая половина XVII–ХХI вв.). Она определяет мучительные поиски моделей взаимодействия власти и церкви, человека и религии. При‐ чем эти поиски присущи социальной среде и мирян, и духовенства.
В итоге противоречия социальной памяти в церковно‐государственных отношениях в XXI в. обуславливают и воспроизводство состояния социокуль‐ турного раскола. Он по‐прежнему не позволяет обеспечить необходимый для развития гражданский консенсус, разделяя общество на «консерваторов», идеализирующих Ивана Грозного, Петра I и Сталина с их человеконенавист‐ нической практикой, и «либералов», настаивающих на том, что именно исто‐ рически сложившаяся в России традиция государственного вмешательства в общественную жизнь порождает безответственность и паразитизм, блоки‐ рующие возможности социального развития. Если в основе западного про‐ гресса лежала религиозная концепция протестантов, то в России предками современных «либералов» являются последователи Н. Сорского – современ‐ ника Ивана III. Их позиция близка теории М. Вебера о преобладающем влия‐ нии религиозных стимулов на создание гуманистической творческой атмо‐ сферы, необходимой для веры в социальную справедливость, определяющую саму возможность ускорения общественного развития. И сторонники разных подходов в силу присущего российскому обществу социокультурного раскола все меньше понимают друг друга. На этом фоне происходит возвращение ли‐ дирующей роли государства в определении религиозной политики, которая уже не раз приводила российское общество к катастрофе.
Если в качестве доказанной исторической закономерности принимает‐ ся фундаментальная роль религии в становлении и историческом воспроиз‐ водстве основанной на традиции культуры, то рассмотренные особенности роли православия и Русской православной церкви в истории русской культу‐ ры позволяют утверждать наличие в русской истории тенденции ослабления влияния религии на общество. При этом надо учитывать, что именно религия является универсальным источником ценностей, мобилизующих личностную энергию и энергию социальных коллективов. Наиболее наглядный пример – послужившая идеологией западной модернизации философия Просвеще‐ ния, в основе которой лежит именно религиозная по природе вера в инди‐ видуальный человеческий разум и его способность эффективно решать все социальные вопросы [3, с. 77]. Эта вера, обозначенная Г. Берманом как «светская религия», послужила мощным стимулом социального развития, в систему которого были включены предпринимательская инициатива, рас‐ цвет на основе утверждения религиозной природы свободы мысли, науки и образования и, в итоге, политическое движение за изменение государствен‐ ного режима в направлении расширения возможностей для самореализа‐ ции индивида в социальном творчестве. «Политические и социальные фило‐ софии, выросшие из Просвещения, были религиями, потому что они при‐ писывали высший смысл и святость индивидуальному разуму, диктующему во имя обеспечения безопасности Свободы объединение в нацию» [4, с. 48].
Выявленная тенденция ослабления религиозного стимула к социаль‐ ному творчеству в истории России позволяет определить ее как ведущую особенность процесса становления русской культуры. Данная тенденция усилилась после бюрократизации Русской православной церкви по воле Петра I и наглядно проявила себя именно в процессе становления классиче‐ ской русской культуры в XVIII–XIX вв.
Актуальность исследования данного вопроса обусловлена тем, что в системе культуры современной России Русская православная церковь пре‐ зентует себя как силу, способную консолидировать общество. Однако исто‐ рический опыт неоднозначно осмысливается религиозными организациями, предпочитающими забыть травмирующие факты с целью усиления своего авторитета в обществе, необходимого для получения желаемого идеологи‐ ческого и социально‐политического статуса источника и охранителя ценно‐ стей [2, с. 187].
Социокультурная травма понимается в социологии как коллективный феномен, который порождает трагические события в жизни личности и со‐ циальной группы, нарушающие социокультурную целостность ментальных структур общности. В отличие от психологической науки, где травма рас‐ сматривается в качестве фактора влияния на личность, в социологии мета‐ фора травмы используется для осмысления событий, изменивших историче‐ скую судьбу народов.
Социокультурная травма может принимать форму исторической или культурной травмы, сохраняя факт давления на социокультурные изменения драматического характера в духовной сфере на уровне исторической судьбы общности или отдельных личностей и их семей. Травмирующая ситуация разрушает «культурную ткань общества», судьбы людей, проявляясь в сфе‐ рах социальной мобильности, феноменах национального унижения или на‐ циональной гордости, обуславливающих коллективное стремление взять ис‐ торический реванш [3, с. 77].
Порожденная социокультурной травмой пассивность общества фор‐ мально усиливала самодержавие, получавшее неограниченную возмож‐ ность реализации бюрократических проектов модернизации, но уже в ходе осуществления таких проектов становился очевидным их неустойчивый эф‐ фект в форме пассивного сопротивления или выжидательного равнодушия общества к его реализации. Этот социокультурный механизм сработал в хо‐ де социалистической модернизации и может сработать в современном со‐ стоянии «бюрократической» модернизации, если вообще возможно разви‐ тие, опирающееся на психологию служилого, то есть в принципе лишенного собственной ценностной автономии чиновничьего класса.
В сложившейся при учете воздействия социокультурной травмы систе‐ ме русской культуры опирающаяся на многочисленную бюрократию власть всегда имела тактическое преимущество в виде «перехвата инициативы»
для внедрения идеологических позиций «правильного» понимания истори‐ ческих событий, но этого эффекта хватало на одно или два поколения, как это произошло в СССР. Сохранившая последствия травмы социальная память после смены одного или нескольких поколений вела к воспроизводству травмирующей ситуации вакуума ценностей, вызванного слабостью влияния на русское общество религиозного механизма воспроизводства культуры.
События форсированной социалистической модернизации путем орга‐ низованного государственного насилия в плане методов осуществления бы‐ ли традиционными для российского государства и определили продолжи‐ тельность парализующего влияния нанесенной социокультурной травмы на социальное поведение людей, которое в значительной степени определяет как общее состояние системы культуры современной России, так и пробле‐ мы религиозного возрождения.
Усугубление последствия травмы происходит в результате не менее шо‐ кирующего нового эксперимента, фактически повторяющего модель сотруд‐ ничества Русской православной церкви с государством, предоставляющим церкви возможности для усиления экономического и идейного влияния в об‐ мен на полную политическую лояльность. Русская православная церковь по‐ степенно получает статус официальной «правой руки» светской власти, ока‐ зывая растущее влияние на государственную систему образования [2, с. 188].
Таким образом, исторически сформировавшиеся противоречия в сис‐ теме отношений между церковью, государством и обществом унаследованы системой культуры современной России, что мешает религии занять в этой системе необходимое для созидательной социальной деятельности место в качестве источника социально обусловленных и потому принимаемых цен‐ ностей и жизненных ориентиров. Противоречия социальной памяти в цер‐ ковно‐государственных отношениях в XXI в. обуславливает и воспроизводст‐ во состояния социокультурного раскола. Его наиболее опасным следствием оказался ценностный вакуум. В российском обществе исторически закрепил‐ ся феномен социокультурного раскола, пока не позволяющий выработать объединяющую общество систему созидательных гражданских ценностей, необходимую для формирования нации и успешного осуществления модер‐ низации. Проблема усугубляется тем, что когда в силу этого вакуума и поро‐ жденной им социальной пассивности общества задачи модернизации пыта‐ ется решать государство с его неискоренимыми пороками административ‐ ного произвола, всеобщей бюрократизации и некомпетентности, кризис ценностей усиливается, выражаясь в утрате необходимого для развития и объединяющего людей в нацию чувства исторического оптимизма.
Список литературы Противоречия социальной памяти о месте религии в российском обществе и их последствия
- Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: в 2 т. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. Т. 1. 804 с.
- Логунова Л.Ю., Рычков В.А. Противоречия исторической и социальной памяти во взаимоотношениях Церкви и государства // Вестник Томск. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2017. № 38. С. 186-199.
- EDN: ZBBDNV
- Новикова О.И., Рудман М.Н. Последствия закрепления поместно-служилой системы как опоры самодержавия и социокультурный раскол общества в XVII веке (часть 3) // Евразийский юридический журнал. 2020. № 8 (147). С. 77-78.
- EDN: NJFDID
- Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования: пер. с англ. М.: Норма, 1998. 624 с.