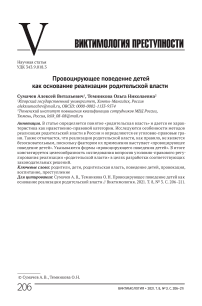Провоцирующее поведение детей как основание реализации родительской власти
Автор: Сумачев Алексей Витальевич, Темникова Ольга Николаевна
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Виктимология преступности
Статья в выпуске: 3 т.8, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье определяется понятие «родительская власть» и дается ее характеристика как нравственно-правовой категории. Исследуются особенности методов реализация родительской власти в России и определяются ее уголовно-правовые грани. Также отмечается, что реализация родительской власти, как правило, не является безосновательным, поскольку фактором их применения выступает «провоцирующее поведение детей». Указываются формы «провоцирующего поведения детей». В итоге констатируется целесообразность исследования вопросов уголовно-правового регулирования реализации «родительской власти» в целях разработки соответствующих законодательных решений.
Родители, дети, родительская власть, поведение детей, провокация, воспитание, преступление
Короткий адрес: https://sciup.org/14120730
IDR: 14120730 | УДК: 343.9.018.3
Текст научной статьи Провоцирующее поведение детей как основание реализации родительской власти
Введение вызывают так называемые формально
Воспитание детей — процесс многообразный и трудоемкий. Проблеме этой посвящено множество различных исследований. В частности, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 143» г. Чебоксары Т. М. Полякова, с психолого-педагогических позиций рассматривает аспекты: современных отношений в семье между ребенком и родителями, как семья влияет на становление личности ребенка, какие типы детско-родительских взаимоотношений бывают [3, с. 498–503]. Относительно категории «родительская власть» отметим, что это право родителей формировать необходимое с их точки зрения (как правило, социально-полезное) поведение своих (не чужих) детей, реализуемое в допустимых законом и/или традициями формах. При этом, формы и методы реализации родительской власти могут варьировать от социально-правомерных (беседы, личный пример, стимулирование и т. п.) до формально противоправных (нанесение побоев, лишение свободы передвижения и т. п.). Нет сомнений в том, что особый интерес противоправные методы реализации родительской власти. Так, С. Н. Тагаева замечает, что жестокое обращение с ребенком может влечь применение санкций нескольких отраслей права, поэтому характеризуется как правонарушение межотраслевого характера [5, с. 612–615].
Актуальность правового регулирования реализации «родительской власти» обосновано еще и тем, что, по свидетельству Т. А. Патшиной, ежегодно в России 2 млн детей в возрасте до 14 лет избиваются своими родителями. Для многих жертв это заканчивается смертью. В 2017 г. от жестокого обращения погибло 1811 детей [2, с. 459–460]. Стоит отметить, что интерес к проблеме жестокого обращения с детьми волнует не только отечественных ученых, но и зарубежных ученых [1, с. 331–335].
Кроме того, интерес к методам реализации родительской власти в России обусловлен, как представляется, не только возможными юридическими последствия для родителей, но и морально-нравственными установками жителей нашей страны.
Так, Анна из г. Мурманск в заметке «Родительская власть» отмечает: «…я категорически против насилия над ребенком, но согласитесь — иногда разбаловавшееся или расхулиганившееся чадо только и можно остановить, что шлепком по попе»1.
В комментариях к данной заметке Екатерина из г. Тверь пишет: «БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ — В ОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!! …вот честно — сколько не пыталась — не получается — иногда такого натворят что ремень — сам в руки прыгает»2.
Елена из г. Омск также откровенничает: «Я впервые взяла ремень в руки, когда Ярославу исполнилось шесть лет. Скажу честно, мне каждый раз бывает стыдно после физического наказания своего ребенка. Поэтому около полугода за ремень я не берусь. А стыдно за свою несостоятельность как родителя, неумение завоевать авторитет и любовь, которые могли бы направлять ребенка вместо шлепков и ремня»3.
Описание исследования
Даже эти немногочисленные мнения свидетельствуют о неоднозначности морально-нравственного обоснования россиянами насильственных форм реализации родительской власти. Более того, опять же, как представляется, ввиду традиционности данных методов воспитания в России, они — насильственные формы реализации родительской власти — не представляются чем-то «из ряда вон выходящими» явлениями. Свидетельством этого является некоторое даже юмористическое отношение к таким методам воспитания, например, в социальной сети «Одноклассники» была выставлена и широко обсуждалась картинка, на которой было написано: «Хотите, чтобы ваши дети росли здоровыми и послушными? Педиатры рекомендуют давать детям „Ремнишку“»4. Комментарии были примерно следующего плана: «„Лупидол“ тоже хорошо помогает»; «Очень вкусные пилюли, сам пробовал»; «Если ремняшку без передозировки и усердия давать, она даже полезная. Испытано на людях 80-х, ах какими мы хорошими выросли» и др. Но были там и иные комментарии: «Имеются противопоказания. Перед применением следует внимательно ознакомиться с инструкцией». Так вот, такие «инструкции» по использованию «Ремнишки» или «Лупидола» определяются, в том числе, и в уголовном законодательстве России. Условно определим их как уголовно-правовые грани реализации родительской власти в Российской Федерации. Стоит заметить, что отношение законодателя к данному вопросу весьма неоднозначно. Так, применительно к вопросу об уголовной ответственности за побои (ст. 116 УК РФ) первоначально родители могли нести ответственность за нанесение побоев ребенку на общих основаниях. Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ законодатель конкретизировал ответственность за побои в отношении «близких лиц»5. Заметим, что в научной среде это законодательная новелла оценивалась неоднозначно. В частности, П. А. Скобликов резко возражал против криминализации побоев родителями своих несовершеннолетних детей [4, с. 59]: «…по ст. 116 «Побои» УК РФ суд будет вынужден почти автоматически вынести обвинительный приговор родителю. Хотя бы единожды отшлепал? — Отшлепал. — Получай!» [4, с. 60].
Однако, уже спустя чуть более 7 месяцев, Федеральным законом от 07 февраля 2017 г. № 8-ФЗ законодатель декриминализовал нанесение побоев ребенку (побои в отношении «близких лиц»), определив обязательное наличие для подобных случаев административной преюдиции6.
Соответственно, уголовно-правовая грань реализации родительской власти в форме нанесения побоев ребенку в воспитательных целях в настоящее время в юридическом плане «отодвинута» за административно-правовую грань (первоначально такие действия оцениваются по ст. 6.1.1. КоАП РФ).
Вместе с тем, особый интерес здесь вызывает провоцирующее поведение детей как основание реализации родительской власти. Хотя, как замечает В. Н. Чулахов: «Как правило, до совершения насильственного преступления в семье ребенок ведет себя пассивно, он старается во всем угодить взрослому, за исключением малолетних, которые в силу своего возраста не могут контролировать свои действия, что и вызывает агрессию у присматривающих за ними взрослых» [6, с. 714]. Однако стоит согласиться с Ю. Г. Юзихановой и Е. В. Шестаковой в том, что они абсолютно обосновано утверждают: «Специфика отклоняющегося поведения несовершеннолетних может быть рассмотрена как обусловленная комплексом взаимосвязанных факторов, относящихся к возрастным, социальным, психологическим особенностям несовершеннолетних как особой социальной группы. Установление таких специфических черт, обуславливающих поведение несовершеннолетних, его качественных и количественных параметров, ориентировано на применение соответствующих мер в отношении данной возрастной группы» [7, с. 83; 8, с. 86]. Среди такого рода мер наличествует и формально противоправные методы реализации родительской власти (как отмечалось: нанесение побоев, лишение свободы передвижения и т. п.). Однако, применение таких мер, как правило, не является безосновательным — фактором их применения выступает «провоцирующее поведение детей».
В свою очередь, среди форм «провоцирующего поведения детей» можно выделить следующие:
-
1) неуспеваемость в школе (наличие неудовлетворительных оценок, невыполнение домашних заданий, пропуск уроков и т. п.);
-
2) непослушание ребенка родителям, воспитателям, учителям и т. п.;
-
3) совершение разовых объективно противоправных действий (например: мелких хищений (нарвать клубники у соседей);
стрелять по птичкам или фонарям из рогатки; лазить по крышам домов (заниматься руферством1) или ездить снаружи или над вагонами поездов (заниматься зацепер-ством2) и т. п.);
-
4) «зависание в интернете» — когда ребенок отказывается гулять, не желает общаться с родителями и сверстниками, не читает книги.
Можно выделить иные формы «провоцирующего поведения детей», которые могут быть обусловлены национальными или религиозными установками, местом проживания (город или сельская местность), молодежной средой (например, принадлежность к молодежным неформальным группам) и др. Учет такого «провоцирующего поведения детей», а равно указанных выше особенностей следует учитывать в социально-юридической практике оценки реализации «родительской власти».
Заключение
И в завершении стоит указать на весьма интересное правило, определяемое в ст. 90 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики, согласно которому: «Национальные автономные образования могут не в полной мере применять положения настоящего Кодекса, комитет народных представителей автономного района или провинции, следуя особенностям… культуры местной национальности (курсив наш — А. С., О. Т.)». Соответственно, можно предположить, что если в рамках реализации родительской власти наказание ребенка посредством лишения его свободы или нетяжкого физического воздействия соотносится с традициями местной культурной общности, деяние будет считаться вполне законным.
В рамках же российского уголовного права такое поведение взрослого даже формально нельзя «подвести» под категорию «обоснованного риска» ст. 41 УК РФ, согласно которой «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели». В этой связи, целесообразно исследование вопросов уголовно-правового регулирования реализации «родительской власти» в целях разработки соответствующих законодательных решений.
Список литературы Провоцирующее поведение детей как основание реализации родительской власти
- Лапа В. Г. Видение проблемы жестокого обращения с детьми за рубежом // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2012. С. 331–335.
- Патшина Т. А. Виктимологическая характеристика жертв преступлений против несовершеннолетних // Социально-правовая защита детства как приоритетное направление современной государственной политики : сб. материалов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 13–14 апреля 2018 г.). Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2018. С. 459–463.
- Полякова Т. М. Семья и ее влияние на формирование личности ребенка // Социально-правовая защита детства как приоритетное направление современной государственной политики : сб. материалов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 13–14 апреля 2018 г.). Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2018. С. 498–503.
- Скобликов П. А. Ослабление государственной монополии на насилие // Законодательство. 2016. № 11. С. 55–61.
- Тагаева С. Н. Жестокое обращение родителей с ребенком — правонарушение межотраслевого характера // Социально-правовая защита детства как приоритетное направление современной государственной политики : сб. материалов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 13–14 апреля 2018 г.). — Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2018. С. 612–615.
- Чулахов В. Н. Личность несовершеннолетнего потерпевшего как элемент криминалистической характеристики насильственных преступлений в семье // Социально-правовая защита детства как приоритетное направление современной государственной политики : сб. материалов Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 13–14 апреля 2018 г.). — Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2018. С. 712-716.
- Юзиханова Э. Г. Статистические показатели и тенденции преступности несовершеннолетних в новейшей истории // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 4 (30). С. 82–87.
- Юзиханова Э. Г., Шестакова Е. В. Структурная деформация семьи как фактор виктимного поведения несовершеннолетних // Виктимология. 2018. № 1 (15). С. 86–92.