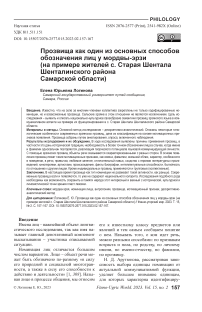Прозвища как один из основных способов обозначения лиц у мордвы-эрзи (на примере жителей с. Старая Шентала Шенталинского района Самарской области)
Автор: Логинова Е. Ю.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Известно, что на селе за многими членами коллектива закреплены не только кодифицированные номинации, но и всевозможные прозвища. Сельские эрзяне в этом отношении не являются исключением. Цель исследования - выявить и описать национально-культурное своеобразие семантики прозвищ эрзянского языка в коммуникативном аспекте на примере их функционирования в с. Старая Шентала Шенталинского района Самарской области. Материалы и методы. Основной метод исследования - дескриптивно-аналитический. Описаны некоторые типологические особенности современных эрзянских прозвищ, дана их классификация на основе мотивационных признаков появления. Прозвища собраны путем анкетирования, опроса, включенного наблюдения. Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования выявлены причины применения прозвищ, в частности это дань исторической традиции, необходимость в более точном обозначении лица в случае, когда имена и фамилии односельчан повторяются, реализация творческого потенциала языковой коммуницирующей личности. С помощью эрзянских прозвищ объекты речи оказываются охарактеризованными с разных сторон. В основе появления прозвищ лежат такие мотивационные признаки, как имена, фамилии, внешний облик, характер, особенности в поведении, в речи, привычка, любимое занятие, отличительный навык, сходство с героями литературных произведений, киногероями, артистами, происхождение, факты биографии, интеллектуальные способности, бытийность по отношению к другим лицам. Кроме индивидуальных прозвищ применяются и групповые (коллективные). Заключение. В настоящее время прозвище как тип номинации не развивает такой активности, как раньше. Современные прозвища если и появляются, то уже не содержат национального колорита. Исследования подобного рода необходимы как возможность сохранить в памяти народа этот интересный и важный с исторической, культурной и лингвистической точки зрения пласт лексики.
Мордва-эрзя, номинация лица, антропоним, прозвище, мотивационный признак, дескриптивно-аналитический метод
Короткий адрес: https://sciup.org/147240765
IDR: 147240765 | УДК: 811.511.151 | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.02.157-167
Текст научной статьи Прозвища как один из основных способов обозначения лиц у мордвы-эрзи (на примере жителей с. Старая Шентала Шенталинского района Самарской области)
Имена лиц – важнейший объект лингвистического исследования, так как имя называет главный денотативный компонент высказывания – участника описываемой ситуации.
Номинация лиц отличается большим числом вариантов. Лицо – объект речи может быть обозначено по-разному «в силу его природной и социальной многогранности, а также в силу его способности к действию и деятельности» [1, 308]. Называя лицо в процессе общения, мы относим его к известному классу предметов или явлений и тем самым сообщаем понятие о нем. Называть того, о ком идет речь, можно разными способами: по признакам возраста и пола, по родству, по личному имени, по имени-отчеству, по фамилии, по прозвищу.
-
Н. Д. Арутюнова, рассматривая зависимость выбора единицы номинации от актуальной коммуникативной функции, уделяет большое внимание единицам, для которых характерна идентифициру-
- (ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ющая номинация. По мнению ученого, кроме имен собственных к ним относятся и определенные дескрипции. Последние отбираются в зависимости не только от «свойств идентифицируемого объекта, но и от фона, на котором он фигурирует и от которого он должен быть отделен», для чего в составе значения такой номинации должен присутствовать индивидуализирующий признак [2, 193–194].
Помимо идентификации имена собственные имеют и прагматическую функцию: она заключается в выборе конкретного варианта имени и выражает эмоционально-оценочное отношение говорящего [19, 45 ]. Выбор подходящего имени для объекта основывается на наших знаниях о нем. «Каждый конкретный предмет или явление окружающего мира имеет целую систему свойств и различных связей, которые образуют в нашем сознании довольно сложное представление о данном предмете, т. е. знание о предмете. Наименование предмета совершенно немыслимо без предварительного, хотя бы самого элементарного знания данного предмета» [16, 159 ].
По справедливому заечанию Л. Б. Бойко, антропонимы «выступают как маркеры времени, социальных процессов, культурной и личностной идентичности», «имя представляет собой тот кусочек мозаики из национальной картины мира, без которого она была бы не только неполной, но и невозможной» [6, 20 , 17 ]. Оним появляется, функционирует и исчезает в контексте конкретной культуры.
Как известно, каждый человек уникален: он обладает определенными внешними данными, способностями, чертами характера и т. п. Кроме того, все мы носим имена, данные нам при рождении. За многими членами коллектива закреплены не только кодифицированные номинации, но и всевозможные прозвища, которые иногда даются «со смыслом» [15]. Сельские эрзяне в этом отношении не являются исключением: они достаточно активно используют прозвища.
Цель исследования – выявить и описать национально-культурное своеобразие семантики прозвищ эрзянского языка в коммуникативном аспекте на примере их функционирования в с. Старая Шентала Шенталинского района Самарской области. Рассматриваются основные семантические группы неофициальных именований, анализируются мотивационные признаки появления прозвищ, некоторые особенности их употребления в речи эрзян.
Обзор литературы
Прозвища как часть системы номинативных единиц того или иного языка стали объектом большого количества исследований. Русским прозвищам уделяется особое внимание в ономастических исследованиях последних десятилетий, в которых они предстают как источник лингвистической, лингвокультурной, этнокультурной, лингвострановедческой информации, как один из способов номинации лиц в отдельных регионах, как объект лексикографии, лингводидактики, как часть афористики, жаргона, просторечия1 и т. д. [3–5; 7; 10; 14; 20].
Что касается финно-угристики, то нам известны лишь работы Н. И. Волковой, изучающей современные прозвища Республики Коми, в том числе на материале языка коми2 [8; 9]. В других работах по ономастике прозвища рассматриваются как часть антропонимической системы удмуртского, марийского, венгерского, финского, эстонского языков.
Специальных исследований, посвященных функционированию прозвищ, в мордовском языкознании не обнаружено. Встречаются лишь упоминания о них, в основном в связи с происхождением имен и фамилий, в том числе мордовских [11; 12; 18].
Материалы и методы
Основным методом исследования стал дескриптивно-аналитический. Описаны некоторые типологические особенности современных эрзянских прозвищ, функционирующих в с. Старая Шентала, дана их классификация. Проанализированы семантическая наполненность и оценочность прозвищ, способы образования и мотива- ционные признаки их появления. Прозвища в количестве свыше 200 ед. собраны путем анкетирования, опроса, включенного наблюдения, охватывающего период с конца 1980-х гг. по настоящее время.
Результаты исследования и их обсуждение
Прозвища – это явление, существующее c древних времен. Слово «прозвище», или «прозывище», во времена В. И. Даля было вариантом термина «прозвaнье», т. е. ‘проименованье, фамилия человека, придаточное имя, какое носит вся семья’3. Впоследствии слово потеряло основное прежде значение ‘фамилия’. Однако позже прозвища стали мотивировочной базой для многих фамилий.
По мнению Д. Н. Ушакова, прозвище – это «названье, данное человеку помимо его имени и содержащее в себе указание на какую-либо заметную черту характера, наружности, деятельности данного лица»4. Суть прозвищ, выделенная в данной дефиниции, подчеркивается и в определениях других исследователей и составителей словарей, например Н. В. Подольской: «…неофициальное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятельством, по какой-либо аналогии, по происхождению и другим мотивам»5. Как отмечает В. И. Супрун, прозвища появляются прежде всего в территориально или социально ограниченной речи, функционируют в диалектной, сленговой и жаргонно-просторечной среде [17, 102 ].
В современной лингво- и социокультурной ситуации существует противоречие между утвердившимся в обществе негативным отношением к прозвищам и реальным их положением в антропонимической системе. Было бы ошибочным недооценивать роль прозвищ. Прозвище сегодня – факт лингвокультурного пространства, неотъемлемая часть жизни людей, плод коллективного творчества, отражение мировоззрения, критического восприятия действительности. В совре- менном социуме в основном это второе имя, относящееся к периферийной зоне ономастики/антропонимики. Что касается эрзянских сел Самарской области, то вплоть до начала XX в. этот вид антропонимов был предпочтительным среди их жителей. В то время население было многочисленным и наблюдались случаи, когда в разговоре при упоминании официального именования было непонятно, о ком идет речь, и только прозвище помогало идентифицировать объект речи.
В ходе исследования были выявлены причины применения прозвищ: 1) дань исторической традиции: прозвища являются, вероятно, самым древним, а изначально единственным типом именования; 2) необходимость в индивидуализации человека, более точном обозначении лица в случае, когда имена и фамилии односельчан повторяются, так как род может быть представлен несколькими семьями; 3) реализация творческого потенциала языковой коммуницирующей личности: речь в своей среде раскованна, непринужденна, прозвище дает возможность или реализует желание выделиться с помощью оригинальных новообразований.
Можно допустить, что присущие многим прозвищам эмоциональная окрашенность и способность сохранять лексическое значение подтверждают их близость к языческим именам предков. Как уже было отмечено, в основе многих фамилий и имен, в том числе эрзянских, лежат прозвища. Внедрение в мордовскую среду имен и особенно фамилий русского образца обусловлено в первую очередь христианизацией, начавшейся в середине XVI в., а позднее – потребностями государственного делопроизводства [12]. В связи с крещением у мордвы в массовом порядке стали распространяться русские (христианско-православные) имена, официально фиксировавшиеся в церковных метрических книгах. Но в быту такое имя выступало в качестве второго, первым же оставалось так называемое банное, или дохристианское, имя, дававшееся ребенку
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ по традиционному обряду имянаречения. Затем русское имя начало использоваться в качестве первоочередного, оттеснив мордовское на второй план, и наконец, оно полностью заменило мордовское, которое какое-то время еще бытовало в роли прозвища. В целом этот антропонимический процесс был довольно длительным, растянувшимся до второй половины XIX в. [18, 17 ]. Указы о переписях в XVII в. настойчиво требовали записывать имена с «отцы», т. е. с отчествами, и «с прозвища», т. е. с третьим членом антропонимической системы, когда сам термин «прозвище» стал обозначать и фамилию [18, 20–21 ].
Фамилии мордве давали, производя их в основном из имени отца или из его про-звищного имени по типу русских фамилий на -ов , -ев , -ин , -кин , -енков/-ёнков , -ский. Так как отчествами или прозвищными отчествами у мордвы до крещения чаще выступали собственно мордовские личные имена, они и оказались закрепленными в основах произведенных от них фамилий (Алгасов, Кель-гаев, Шиндин, Ледяйкин, Кильдюшевский) . Некоторые фамилии произошли от русских или мордовских прозвищных отчеств, не связанных с личными именами (Горбунов, Кривошеев, Рябов; Кевбрин ( кев ‘камень’, пря ‘голова’), Сёрмавбрин ( сёрмав ‘пестрый’, пря ‘голова’, Учамбрин ( уча ‘овца’, пря ‘голова’) [12].
Активное хождение прозвищ среди сельчан можно объяснить желанием уйти от использования имен, избежать их произнесения из-за боязни навредить носителю имени, характерным для наших предков. Это подтверждается и другими фактами. Так, распространенная сейчас именная форма называния ранее не была принята. Использовался термин родства ни ‘жена’ с суффиксом притяжательности, в соединении с именем мужа определяющий отношение к супругу: Васянизэ ‘жена Васи’. В конце XX в. в эрзянских селах бытовал и вариант со словом баба, которым обозначали жену: Костябаба ‘жена Кости’. Словами-обращениями либо словами, указывающими на собеседника или упоминаемого родственника, становились эй, тон ‘ты’, сон ‘он’, монь (монсесь) ‘мой’. В беседе с детьми женщина называла мужа тонть тетят / тынк тетянк ‘твой отец / ваш отец’, но ни в коем случае не по имени. Умалчивание имен мужа и жены в некоторых населенных пунктах сохранялось вплоть до недавнего времени [13, 228].
Анализ показал, что современные прозвища эрзян обычно являются дополнением к основному имени или заменяют его. Они даются в разные периоды жизни людей и главным образом односельчанами.
Особенностью использования прозвищ эрзянами является то, что они применяются преимущественно по отношению к лицам, не участвующим в коммуникации, т. е. выступают не в роли прямого обращения, а для называния лица в его отсутствие, при разговоре с третьим лицом. Прозвища не употребляются в присутствии адресата часто из соображений этики, из-за боязни обидеть обозначаемое лицо. При прямом обращении чаще используются имена. Исключением может быть устоявшееся, в том числе по молчаливому согласию носителя, шутливо-ироничное обращение.
С помощью эрзянских прозвищ объекты речи оказываются охарактеризованными с разных сторон.
Одна из главных целей исследования – установить мотивационные признаки, т. е. причины, появления прозвищ. Мотивационные признаки, лежащие в основе прозвищ, позволяют разделить их на несколько групп.
Прозвища , образованные от имен
Эрзянские формы русских имен: Тюмо от Тимофей, Вантё от Ваня, Онтон от Антон, Кирё от Кирилл, Олда от Евдокия, Окся от Ксения и укр. Оксана, Кристё от Кристина и др.
Имена с суффиксом -ка: Петюшка от Петя, Николка от Николай, Татьянка, Зинка, Зойка. Необходимо отметить, что в современной бытовой речи эрзи мужские имена с суффиксом -ка - очень распространенное явление: Колька, Сашка (Санька), Лёнька, Ванька, Юрка. Известно, что в прошлом русские личные имена, а по их типу и мордовские писались, а также произносились русскими нередко с уменьшительным русским суффиксом -ка. Так же и многие женские – исконно мордовские личные и семейные, «жизненные» – имена содержали в конце элемент -га/-ка [12; 18].
Прозвища, получившиеся в результате трансформации имени: 1) на основе ассоциативного творчества, заключающегося в замене непривычного имени другим малознакомым словом: Вьетнам от Вениамин; 2) путем использования уменьшительно-ласкательной формы обиходно-бытового варианта имени, позволяющей продемонстрировать расположение к объекту речи: Жорик от Георгий, Шурик от Александр; 3) посредством использования сокращенного варианта имени, позволяющего упростить процесс общения в смысле не только скорости, но и стиля: Троша от Трофим, Гриня от Григорий.
Прозвища, возникшие на основе ассоциаций с именем: Брежнев (о мужчине по имени Леонид), Попович (о мужчине по имени Алёша).
Прозвища , образованные от фамилий
Современные прозвища, принимающие форму мордовских личных имен (исконных и заимствованных) или древних прозвищ путем отсечения суффиксов, с помощью которых когда-то были образованы фамилии: Биськай от Биськаев, Бондяй от Бондяев, Кандрай от Кандраев, Лемай от Лемаев, Батай от Батаев, Турай от Тураев, Турлач от Турлачёв.
Прозвища, возникшие в результате трансформации фамилий на основе ассоциативно-звукового принципа. Мотивом для создания прозвищного имени оказывается сходство части фамилии с частью другого слова – имени собственного или нарицательного. Чаще всего в основе подобных прозвищ – чисто внешнее созвучие фамилии и прозвища. В результате языковой игры возникают антропонимы, которые напоминают существующие 1) прецедентные имена: Паникин от Панюшев, Геракла от Гераев, Каштанка от Каштанова; 2) нарицательные имена русского языка: Француз от Французов, Калина от Калинин, Осёл от Осипов; 3) нарицательные имена эрзянского языка: Ёро (сокращенное от эрз. ёроков ‘ловкий, способный’) от Ерофеев, Пона (эрз. ‘шерсть, масть’) от Пономарёв.
Другие группы представлены небольшим количеством антропонимов.
Прозвище, получившееся в результате перевода основы фамилии с русского на эрзянский язык: Верьгиз (эрз. ‘волк’) от фамилии Волков.
Прозвище, основанное на использовании девичьей фамилии носителя: Бируля .
Прозвище, получившееся в результате сочетания трансформированных фамилии и имени: Седай Паня от Седаев Павел.
Прозвища , выделяющие определенные черты внешности
Мелкой Колька ‘мелкий Колька’ (из-за низкого роста), Шульс (Шульц – немецкая фамилия, с виду мужчина напоминал немца), Швили (-швили – часть грузинских фамилий, с виду мужчина напоминал грузина), Цыган (внешне мужчина был похож на представителя цыганской национальности. Помимо этого признака прослеживается и бытийность по отношению к другим лицам: в его доме останавливались кочующие цыгане. Это прозвище носят и другие члены семьи), Абдула (о мужчине, чьи черты напоминали восточного человека), Китай (Миша) (о главе семьи и о других ее членах, которые имели низкий рост и характерный разрез глаз), Зэк/ Зык (с виду и по поведению напоминал бывшего заключенного), Кепе Пря – эрз. букв.: ‘босая голова’ (о лысом мужчине), Лысый (о мужчине с проплешиной), Жираф (из-за высокого роста и худощавого телосложения), Носорог (из-за большого носа), Овто Юрик – эрз. овто ‘медведь’ (о крупном мужчине), Рицяга – эрз. ‘длинный кол’ (из-за высокого роста), Рыжой Панька (о рыжем мужчине по имени Павел), Рыжой Киска – эрз. киска ‘собака’ (о рыжих мужчинах), Кудряв (о кудрявом человеке), Бомбовозка (о невысокой, коренастой женщине), Косой Колька , Куя Мария – эрз. куя ‘толстый’ (о толстой женщине), Пелькапря – эрз. букв.: ‘кончик пальца’ (о девушке маленького роста).
Прозвища , определяемые чертами характера , особенностями (манерой) поведения , образом жизни
Мужик (о человеке, который с детских лет по виду, осанке, поведению был похож на взрослого), Полупьяный (о мужчине, ко-
(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ торого часто видели подвыпившим), Угар , Спирт Василий (о мужчинах, которые постоянно были в состоянии опьянения), Чеерь – эрз. ‘мышь’ (о тихом, кротком, незаметном мужчине), Баламут (о быстро говорящем мужчине), Бандит (о мужчине, постоянно нарушающем закон, порядок, правила), Уды Туво – эрз. ‘спящая свинья’ (о мужчине, любящем много спать), Бука – эрз. ‘бык’ (о мужчине, который ходит с опущенной головой и смотрит исподлобья), Шайтян – эрз. ‘чёрт’ (о вредном мужчине, чье поведение при этом часто непредсказуемо), Хитрой (о хитром человеке), Симпатуля (о человеке, который в юности позиционировал себя как привлекательный мужчина), Бобо Петя – эрз. бобо ‘пугало’ (о мужчине с громким голосом, которого боялись дети), Хвальбун Володя (часто хвалится), Три Копейки (о жадном человеке), Пружина (о мужчине, который во время ходьбы подскакивает), Осёл (о мужчине, низко опускающем голову и подскакивающем при ходьбе), Конфетка (о мужчине, который имел красивый дом и строго следил за чистотой в нем).
Рассматриваемая группа единиц достаточно многочисленна и разнообразна, и это не случайно. Традиция именования лица с учетом его характера и особенностей поведения имеет глубокие национально-культурные корни. Н. Ф. Мокшин, перечисляя обозначения основ традиционных, самобытных мордовских личных имен, одной из первых называет черту характера [12]. Преобладающее большинство именований данной группы возникло в результате метафорического переноса.
Прозвища , данные за особенности речи , речевое поведение
Баяш – пример онима, связанного со специфичным произнесением слова из-за недостатка дикции (вместо слова бараш , которым призывали баранов, овец). Несколько человек носят/носили прозвища, появившиеся из-за речевой привычки – регулярного воспроизведения ими речевых элементов (слов, фраз): Ёман – эрз.
‘пропаду’, Гайни – эрз. гайни/гайниця ‘звонкий, звенящий; пылающий’, Син-дерьпуп (возможно, придуманное слово, произносимое мужчиной в нетрезвом состоянии), Хрен С Ним , Хорьбай (о мужчине, который часто, угрожая кому-то, произносил слово хорьбадтян ‘ударю’; ср.: эрз. хропадемс ‘ударить’).
Прозвища , полученные за привычку , любимое занятие , увлечение
Колган – эрз. ‘череп’ (из-за привычки бить головой противника во время драки), Цёков – эрз. ‘соловей’ (из-за привычки постоянно свистеть), Барсук (о мужчине, который имел привычку лечить своих домашних барсучьим жиром), Дыман (от ‘дым’) / Качамо – эрз. ‘дым’ (о много курящем мужчине), Тюжа Надя – эрз. тюжа ‘рыжий, коричневый’ (о женщине, которая красила волосы в такой цвет), Есаул (о мужчине, который любил и часто напевал одноименную песню).
Некоторые неофициальные именования служили для выделения какого-либо отличительного навыка, умения. Например, прозвище Сокол носил мужчина, который хорошо выполнял обязанности вратаря во время игры в футбол, за способность ловко маневрировать, видеть мяч и ловить его. Плеш/Плешкин – мужчина, который хорошо отбивал косу ( плешка – эрз. ‘металлическая планка для отбивки кос’6). Женщину называли Сабля Зоя за ее умение воровать и быть непойманной.
Прозвища , причиной появления которых служит сходство с героями художественных произведений , киногероями , мультгероями , артистами
Вицин (о незаметном, слегка трусоватом мужчине), Крокодил Данди (о мужчине, который пытался копировать образ героя одноименного фильма), Онё (Онегин) (о мужчине, в котором видели черты литературного героя), Муму (о мало говорящем, необщительном мужчине), Хазанов (из-за внешнего сходства с артистом).
Прозвища , подчеркивающие интеллектуальные способности
Тумонь Таня – эрз. тумонь ‘дубовый’ (о женщине с ограниченным интеллектом и недостаточным образованием), Учите-лень Сельме – эрз. ‘учительский глаз’ (о много знающем человеке).
Прозвища , причиной появления которых служат происхождение , факты биографии
Таким признаком может являться 1) место: Пандо – эрз. ‘гора’ (о человеке, жившем под горой); 2) профессия: Милиция Василий (о сотруднике полиции), Лав-шник Вера (продавец Вера; лавшник от лавка ‘магазин’), Паровозник (о мужчине, работающем машинистом на железной дороге), Майор , Капитан (о мужчинах, имевших такие воинские звания), Экономика (о мужчине по профессии экономист); 3) национальность: Татарка Галя .
Причиной закрепления за лицом прозвища может стать даже единичный случай, ситуация из жизни. Так, мужчину стали звать Дерни после замечания в его адрес: Кенк-шеть дерни – эрз. ‘Дверь твоя скрипит’ (ср.: эрз. дерьгун ‘коростель’ – птица с характерным скрипучим криком, дерьк – наречноизобразительное слово, передающее крик коростеля7). Прозвище Пири-пири получил мужчина, жена которого настаивала на том, чтобы тот установил забор: эрз. пирик ‘загороди’. Бандурой зовут человека, который в детстве просил отца купить ему гитару. Название музыкального инструмента заменено намеренно с целью усилить эмоциональную составляющую шуточной основы единицы номинации. Прозвище Подлюга мужчина получил за случай, когда испортил чужое имущество и не признал свою вину.
Прозвища , в которых прослеживается бытийность по отношению к другим лицам
С целью дифференциации личности используется двучленная модель, состоящая из имени предка (отца, матери, деда, прадеда и т. п.) с суффиксом неопределенного генитива -нь с притяжательным значением (или без суффикса) и имени носителя прозвища: Анкань Толя ‘Толя – сын Анки’, Нато Вера ‘Вера – дочь Натальи’. Двучленная антропонимическая модель традиционно используется у мордвы еще с дохристианских времен [18]. Реже в качестве первого элемента употребляется нарицательное имя, ставшее собственным, так как является отдельным именованием лица: Татар Гена (о мужчине по имени Гена, который женат на татарке), Майор Люба (жена мужчины по прозвищу Майор). Морков – оним, произведенный от имени женщины Морква (эрзянская форма русского имени Марфа), которая была в роду у носителя прозвища.
Таким образом, некоторые прозвища закрепляются за людьми в детстве, другие – в определенные моменты жизни, когда для этого возникает причина. Проследить этимологию многих прозвищ в настоящее время уже не представляется возможным.
Большая часть рассмотренных выше прозвищ являются индивидуальными и принадлежат мужчинам. Практически в каждом доме все мужчины обладают прозвищами. В двух-трех случаях человек имел/имеет несколько прозвищ, обнаруживающих разные мотивационные признаки. Например, одного и того же мужчину зовут Бунё ‘бык’ (из-за привычки ходить с опущенной головой), Удмурт (из-за признаков монголоидности на лице), Песок Пеке – эрз. букв.: ‘живот с песком’ (из-за большого живота).
Кроме индивидуальных прозвищ в Старой Шентале применяются и групповые (коллективные) прозвища. Так, некоторые мордовские антропонимы бытуют в качестве названий родственных групп, состоящих из того или иного количества отдельных, но родственных семей, ведущих свое происхождение от одного общего, иногда очень дальнего предка, носившего дохристианское имя. В литературе они обозначены как «уличное наименование дома», «домашнее наименование», «родовое имя» [11; 12]. Семейно-родовые прозвища, или патронимы, есть и в других финно-
(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ угорских языках, например в марийском8. У эрзи они представляют собой имя предка-мужчины, основателя рода, с суффиксом неопределенного генитива, выражающим принадлежность (или без него), и передаются от поколения к поколению: Сальте-ень , Бондяень , Саймулонь , Терьконь . Если нужно уточнить, о ком из членов семьи (рода) идет речь, добавляют индивидуальное (личное) имя: Сальтей (Сальтеень) Галя ‘Галя из рода Сальтея’. Уличное название могло произойти от прозвища, данного по особенностям характера, занятиям, внешним признакам и др. [11, 75 ]. Поэтому потомкам, членам семьи как наследство передавались и прозвища с элементами, представляющими собой нарицательные существительные. Например, целый род в селе носит прозвище Шляпа ( Шляпа Вася , Шляпа Галя , Шляпа Люда) или Шляпань “Шляпин/Шляпина”, которое изначально было присвоено отцу семейства, любившему головные уборы типа шляпы.
Для обозначения жителей Старой Шен-талы эрзяне соседней деревни используют прозвище кельме вазт – эрз. ‘холодные телята’. Несмотря на территориальную близость и общую национальную принадлежность, соседи осознают разницу в манерах и поведении. В прозвище они подчеркнули характерную и в то же время отличительную черту старошенталинцев: бóльшую сдержанность, спокойствие, тихую, некрикливую манеру говорить.
Как видим, среди представленных про-звищных элементов количественно преобладают такие, которые образованы от имен и фамилий, либо такие, которые возникли на основе признаков (внешний вид, черты характера, поведение). Получившиеся имена представляют собой трансформированные личные имена и фамилии, суффиксальные образования, метафору, метонимию, прецедентные имена, зооморфные наименования, этнонимы, имена действия и т. д.
Что касается эмоционально-экспрессивной окрашенности выявленных единиц, то они так или иначе связаны с характеристикой носителя, передают отношение со стороны их пользователей, дают оценку объекту. Выявленный материал говорит о наблюдательности, меткости, остром уме, способности замечать связи между явлениями из разных областей на основе имеющихся знаний, оригинальности мышления и о чувстве юмора эрзян.
Исследуемые в данной работе языковые единицы имеют четко выраженную ономасиологическую и функциональную специфику: именуют лица или группы лиц по маркированному, «ориентационному» признаку, чаще всего коннотативно насыщенному.
Заключение
Наличие прозвищ в речи самарской мордвы-эрзи – факт лингвосоциокультурной жизни региона. Прозвища бытуют и в других мордовских селах области. За время существования прозвищ менялись принципы их образования, функции, но они никогда не уходили из бытовой речи. Однако сейчас этот тип номинации не развивает такой активности, как раньше. Прозвища занимают не центральное, а периферийное положение в системе номинации людей. Среди причин утраты прозвищ – ослабление степени их актуальности в связи с сокращением населения села, что приводит к уменьшению числа людей, имеющих одинаковые имена и фамилии; повышение образовательного уровня; распространение административного ресурса. Современные прозвища если и появляются, то уже не содержат национального колорита.
Исследования подобного рода необходимы как возможность сохранить в памяти народа такой интересный и важный с исторической, культурной и лингвистической точки зрения пласт лексики. Упустив время, мы потеряем ценный источник информации, каковым являются члены данного социума, они же носители языка, которые могли бы разъяснить мотивировку прозвищ. Рассчитываем на то, что поставленные в настоящей статье вопросы обеспечивают перспективность дальнейших исследований.
Список литературы Прозвища как один из основных способов обозначения лиц у мордвы-эрзи (на примере жителей с. Старая Шентала Шенталинского района Самарской области)
- Арутюнова Н. Д. Номинация и текст // Языковая номинация: (Виды наименований). М.. 1977. С. 304-357.
- Арутюнова Н. Д. Номинация, референция, значение // Языковая номинация: (Общие вопросы). М., 1977. С. 188-206.
- Берестова Е. А. Система прозвищ диалектной языковой личности // Вопросы ономастики. 2015. № 2. С. 141-155. DOI: 10.15826/vopr_ onom.2015.2.007.
- Боброва М. В. Прозвища как лингводидак-тический материал // Русистика. 2022. Т. 20. № 1. С. 22-34. DOI: 10.22363/2618-8163-202220-1-22-34.
- Боброва М. В. Соматизмы в современных прозвищах Пермского края // Вопросы ономастики. 2018. Т. 15, № 2. С. 162-179. DOI: 10.15826/vopr_onom.2018.15.2.019.
- Бойко Л. Б. К вопросу о роли антропонимов в лингвокультуре // Вестник Балтийского федерального университета имени И. Канта. 2013. № 2. С. 13-21. URL: https://www.elibrary. ru/item.asp?id=18844975 (дата обращения: 06.04.2022).
- Вальтер Х., Мокиенко В. М. Русские прозвища как объект лексикографии // Вопросы ономастики. 2005. № 2. С. 52-69. URL: https:// www.elibrary.ru/item.asp?id=24073225 (дата обращения: 06.11.2021).
- Волкова Н. И. Прецедентные имена и словари современных прозвищ Республики Коми // Словарное наследие В. П. Жукова и пути развития русской и общей лексикографии: третьи Жуков. чтения: материалы Между-нар. науч. симп. Великий Новгород, 2004. С. 32-36.
- Волкова Н. И. Репрезентанты концепта человек социальный в сфере прозвищ Республики Коми // Лингвокультурология. 2007. № 1. С. 36-48. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ reprezentanty-kontsepta-chelovek-sotsialnyy-v-sfere-prozvisch-respubliki-komi/viewer (дата обращения: 05.04.2022).
- Волкова С. Н. Прозвища в современной речевой коммуникации // Ономастика Поволжья: материалы XVII Междунар. науч. конф. Великий Новгород, 2019. С. 281-286. DOI: 10.34680/2019.onomastics.281.
- Куклин В. Н. Некоторые вопросы эрзя-мордовской антропонимии // Ономастика Поволжья: материалы II Поволж. конф. по ономастике. Горький, 1971. С. 73-75.
- Мокшин Н. Ф. Мордовская дохристианская антропонимия // Ономастика Поволжья: материалы I Поволж. конф. по ономастике. Ульяновск, 1969. С. 59-64. URL: http://op.imja. name/statji/mokshin1969.html (дата обращения: 06.11.2021).
- Мордва: Ист.-культур. очерки / ред. кол.: B. А. Балашов (отв. ред.) [и др.]. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1995. 655 с.
- Никитина Т. Г. Антропонимический компонент регионального молодежного сленга // Язык. Речь. Речевая деятельность: межвуз. сб. науч. тр. Н. Новгород, 2004. Вып. 7. C. 139-143.
- Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка. Лексика. Изд. 3-е / под ред. О. Б. Сиротининой. М.: URSS, 2009. 253 с.
- Серебренников Б. А. Номинация и проблема выбора // Языковая номинация: (Общие вопросы) / отв. ред. Б. А. Серебренников, А. А. Уфимцева. М., 1977. С. 147-187.
- Супрун В. И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал: моногр. Волгоград: Перемена, 2000. 172 с.
- Сушкова Ю. Н. Юридико-антропологические аспекты имени у мордвы // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. История. 2008. № 2. С. 16-25. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ yuridiko-antropologicheskie-aspekty-imeni-u-mordvy/viewer (дата обращения: 06.11.2021).
- Уфимцева А. А. Лексическая номинация (первичная нейтральная) // Языковая номинация: (Виды наименований). М., 1977. С. 5-85.
- Цепкова А. В. Метафорические модели прозвищ, мотивированных особенностями характера и поведения человека (на материале прозвищ-антропонимов Новосибирской области) // Ономастика Поволжья: материалы XVIII Междунар. науч. конф.: в 2 т. Кострома. 2020. Т. 1. С. 375-381. DOI: 10.34216/2020-1. onomast.375-381.