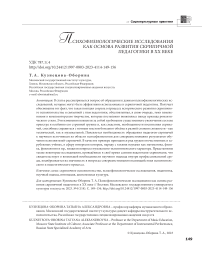Психофизиологические исследования как основа развития скрипичной педагогики в XX веке
Автор: Кузнецова-оборина Т.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Социокультурные практики
Статья в выпуске: 4 (114), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос об обращении к данным психофизиологических исследований, которые могут быть эффективно использованы в скрипичной педагогике. Получает обоснование тот факт, что такая позиция созрела в процессе исторического развития скрипичного исполнительства и связанной с ним педагогики, обусловленная, в свою очередь, теми изменениями в композиторском творчестве, которые постепенно появлялись ввиду прихода романтического стиля. Эти изменения повлекли за собой требование существенного увеличения состава оркестра и особенно его струнной группы и, как следствие, необходимости воспитания скрипачей, способных справиться с нотным текстом большого объёма и разной степени сложности как технической, так и музыкальной. Поясняется необходимость обращения педагогов скрипачей к научным источникам из области психофизиологии для совершенствования результатов обучения исполнителей скрипачей. В качестве примера приводится ряд трудов отечественных и зарубежных учёных, в сферу интересов которых, наряду с такими науками как математика, физика, физиология и пр., входили вопросы музыкально исполнительского характера. Представлены также некоторые исследования, проведённые в своё время самими педагогами скрипачами, что свидетельствует о возникшей необходимости научного подхода внутри профессиональной среды, подчёркивается их значимость в вопросах совершенствования взаимодействия исполнительского и педагогического процесса.
Скрипичное исполнительство, психофизиологические исследования, педагогика
Короткий адрес: https://sciup.org/144162861
IDR: 144162861 | УДК: 787.1/.4 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-4114-149-156
Текст научной статьи Психофизиологические исследования как основа развития скрипичной педагогики в XX веке
КУЗНЕЦОВА-ОБОРИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – профессор кафедры музыкального образования, Московский государственный институт культуры; доцент кафедры инструментального исполнительства, Российская государственная специализированная академия искусств
KUZNETSOVA-OBORINA TATYANA ALEKSANDROVNA – Professor at the Department of Music Education, Moscow State Institute of Culture; Associate Professor at the Department of Instrumental Performance, Russian State Specialized Academy of Arts
PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESEARCH AS A BASIS FOR THE
DEVELOPMENT OF VIOLIN PEDAGOGY IN THE XX CENTURY
Tatyana A. Kuznetsova-Oborina
Moscow State Institute of Culture,
Khimki, Moscow region, Russian Federation;
Russian State Specialized Academy of Arts,
В теории скрипичного исполнительства и педагогики выделяют два основных подхода – эмпирический на основе практического опыта и научный на базе психофизиологических исследований. Первый охватывает период XVII–XIX веков, второй относится к началу XX века. Разумеется, жёсткой границы между ними быть не может, поскольку второй естественным образом вытекает из первого и представляет собой следующий, более совершенный, период развития педагогического мастерства в области скрипичного исполнительства. Это подтверждает тот факт, что правильность части исполнительских приёмов и правил освоения инструмента, приобретённые на основе практического опыта, впоследствии нашли подтверждение в использовании результатов психофизиоло- гических исследований. Современная скрипичная педагогика опирается на оба подхода, понимая роль и значение каждого в системе обучения скрипача. Различия в них сложились в процессе исторического пути развития скрипичного исполнительства и являются закономерными.
Эмпирическая педагогика опиралась на практический опыт, который требовал от учащегося освоения большого количества разнообразного технического материала, в процессе изучения которого отбирались и вырабатывались нужные навыки игры. С этой целью педагоги-скрипачи, обладавшие композиторским даром, писали этюды, упражнения, пьесы и произведения крупной формы. В этот период был создан огромный скрипичный репертуар концертного и учеб- ного назначения. Он составлял основу развития двух значительных составляющих частей исполнительского мастерства – музыкальнохудожественную и техническую. Элементы научного подхода в этот период имели место. Они тоже исходили из практического педагогического опыта, но тогда больше касались вопросов психологического характера.
Научный подход опирается на исследования в области психофизиологии и отличается более внимательным отношением к изучению самого исполнителя. С помощью такого подхода скрипичная педагогика изучает особенности исполнителя, его возможности и его способности, куда включаются слуховые, музыкальные и, наиболее сложные для обучения, двигательные. Поэтому в ряду многих исследований разного характера особое внимание педагогов-скрипачей привлекают работы учёных-физиологов. Данное направление, в отличие от эмпирического, получило название «анатомо-физиологического» (термин, предложенный пианистом Г. М. Коганом). К самому же исполнителю, наряду с задачами музыкального и слухового характера, предъявляются требования осознанного отношения к своим игровым действиям.
Начало обращения к результатам психофизиологических исследований в скрипичной педагогике относится к первой трети XX столетия. Для этого сложились определённые условия, которые включали в себя необходимость и возможности. В течение предыдущих веков был накоплен достаточно большой скрипичный репертуар в жанрах сольного и оркестрово-ансамблевого исполнительства. Особенно сложным он стал в результате бурного развития романтического стиля в середине XIX века и последующего времени. Скрипка окончательно утвердила за собой статус виртуозного инструмента. Скрипичные произведения этого периода в сравнении с сочинениями классического стиля существенно раздвинули диапазон музыкально-художественных образов. Они отличаются большим объёмом нотного текста, динамизмом, технической сложностью, что требует частой, а порой мгновенной, смены исполнительских приёмов, следовательно, большой подвижности действий исполнителя. Развитие симфонических жанров шло в направлении увеличения звукового объёма и технического разнообразия. В соответствии с этим значительно увеличился состав оркестра, в том числе струнно-смычковой группы. Перед скрипичной педагогикой встала необходимость воспитания скрипачей, соответствующих предъявляемым требованиям, без разделения квалификаций на сольное и оркестрово-ансамблевое исполнительство.
Для воспитания высокоразвитых исполнителей-скрипачей необходимо совершенствование самой скрипичной педагогики, и оно стало возможным благодаря педагогам, которые в обучении скрипачей использовали не только практический опыт, но и научный подход. Он имеет две стороны развития. Одна сторона проявляется в умении анализировать накопленный исполнительский и теоретический материал, проводить собственную исследовательскую работу, находить наиболее рациональные способы преодоления технических трудностей в обучении. Другая сторона основывается на изучении данных различных наук (например, психологии, физиологии, акустики) и умении применить полученные знания в своей педагогической работе. Особенно это касается самой сложной её части – работы двигательной сферы скрипача. На эту сторону исполнительства обратили внимание учёные-физиологи, обнаружив в ней присутствие нарушений, осложняющих нормальное течение естественных физиологических процессов. В частности, по вопросам формировании двигательной культуры Ф. Штейнгаузен в книге «Физиология ведения смычка» (1930), посвящённой работе правой руки, особенно подчёркивал, что «…дальнейший прогресс … невозможен благодаря отсутствию физиологической базы» [12, с. 103]. По вопросам её формирования обращался к скрипичной педагогике: «На основе физиологии надо построить новое здание – это задача педагогов» [12, с. 103].
Наука, изучавшая человека, в частности, физиология и психофизиология, развивались параллельно и уже располагали результатами многих исследований в этой области. К тому же они стали более доступными, чем в предыдущие века, для тех, кого привлекал к ним профессиональный интерес. Русские учёные И. М. Сеченов (1829–1905), основоположник русской физиологической школы, а так же И. П. Павлов (1849–1936) и В. М. Бехтерев (1857–1927) вносят свой вклад в изучение природы жизнедеятельности человека. И. М. Сеченову принадлежит положение о том, что в основе сложных психических явлений лежат физиологические процессы, которые могут быть изучены объективными физиологическими методами. Широко известна его научно обоснованная мысль, ставшая хрестоматийной: «Всё бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению» [9, с. 5]. И. П. Павлов, русский физиолог, создавший учение о высшей нервной деятельности, заложил основы материалистической психологии и с помощью условных рефлексов нашёл объяснение ряду самых сложных процессов, происходящих в мозгу человека. В. М. Бехтерев стал одним из основателей экспериментальной психологии, посвятив свою научную деятельность изучению физических, психических и, в частности, нравственных сторон человеческой личности. В результате многосторонних исследований В. М. Бехтерев обосновывает тесную взаимосвязь между движением и мышлением, подчёркивая положительное влияние умственной деятельности на двигательную сферу человека. Позже, во второй половине XX века, будут опубликованы интересные исследования Н. А. Бернштейна (1896–1966), физиолога в третьем поколении, и на рубеже XX–XXI веков работы Н. П. Бехтеревой (1924–2008), тоже потомственного учёного, внучки В. М. Бехтерева.
В работах зарубежных учёных появились исследования, адресованные непосредственно музыкантам и даже конкрет- но скрипачам. В 1925-м году вышла книга учёного-физиолога и пианиста В. Тренде-ленбурга (1877–1946) «Естественные основы игры на струнно-смычковых инструментах». В 1930-м году – фундаментальное исследование другого учёного-физиолога Ф. Штейнгау-зена (1859–1910) «Физиология ведения смычка», где подробнейшим образом представлено строение костно-мышечного аппарата рук скрипача и природа их движения. Оба автора уделяют серьёзное внимание вопросам взаимодействия движения и мышления, подчёркивая необходимость сознательного отношения исполнителя к вырабатываемым игровым действиям в их взаимосвязи. Г. Гельмгольц (1821–1894) – учёный физик, математик, акустик, физиолог – проводил исследования и в области музыки. В работе «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки» (1875) он, наряду с другими вопросами, исследовал соотношение положения и способа ведения смычка с качеством звучания скрипки и различными звуковыми оттенками. С помощью построенного им прибора под названием «микроскоп вибраций» Г. Гельмгольц при большом увеличении проследил механизм извлечения звука из скрипичной струны и определил «…музыкальную часть звука, соответствующую равномерно правильно периодическому движению воздуха» [5, с. 105]. При этом он говорит, что: «…более всего значения имеет искусство владеть смычком» [5, с. 130], подчёркивая тем самым важность приобретения мастерства самим исполнителем. В том, что вопросам музыкального, в частности скрипичного, исполнительства уделяли внимание учёные из, казалось бы, других областей человеческой деятельности, нет ничего удивительного. Это широко образованные люди, в воспитании которых музыка была обязательной, как фактор становлении личности человека и учёного.
В скрипичной исполнительской среде первой трети XX века также наметился поворот в сторону наук, изучающих природу человека, звука, вопросы интонационного и ритмического разнообразия. Появилось понимание, что пренебрежение такими знаниями может стать помехой на пути нормального воспитания исполнителя-скрипача. Особенно в вопросах формирования его исполнительского аппарата, где взаимосвязь движения и мышления формирует как профессиональное, так и высшее творческое начало.
Одним из первых педагогов такого уровня стал Б. А. Струве (1897–1947). Обладая наряду с музыкальным ещё и медицинским образованием, он своими исследованиями закладывал научные основы игры на смычковых инструментах, подчёркивая их значение для обучающего процесса, особенно его начального периода. О важности этой задачи Л. С. Ауэр писал: «Нет другого инструмента, полное овладение которым в позднейший период учения требовало бы такой осторожности и точности вначале, как того требует скрипка» [1, 41]. Этому вопросу Б. А. Струве посвятил работу «Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов» (1952). В ней он предлагает методику определения способностей у детей и указывает, что одной из первых (если не самой первой) причин неточного пения при поступлении в музыкальную школу может быть не плохой слух, а неразвитая работа связок. Здесь же он рассматривает особенности первых уроков, развитие музыкальных и технических способностей ученика, ставит перед педагогом задачу не только обучения, но и воспитания личности будущего исполнителя-струнника. Одно из важных положений данной темы выражено так: «Ребёнок никогда не должен уходить из класса, не получив удовлетворяющее разъяснение педагога на волнующий его вопрос» [11, с. 183]. Наряду с грамотным обучением музыканта важным фактором успешной творческой жизни является сохранение его профессионального здоровья. Этой теме учёный-педагог посвящает работу «Профилактика профессиональных заболеваний музыкантов: смычковая группа» (1934 г.). Б. А. Струве, как пишет он сам, проводит консультации с докторами К. Зингером, М. И. Аствацатуровым и др. Этот факт говорит о необходимости поиска знаний в виде тех объективных данных, которых избежать невозможно, а учитывать необходимо. Опираясь на данные д-ра Зингера, по которым «… профессиональные заболевания редко встречаются у музыкантов в возрасте старше 30 лет» [10, с. 21], и на личные наблюдения, он делает предположение, что «… профессиональные заболевания в массе падают на стадию формирования личности музыканта» [10, с. 21]. Это знание чрезвычайно важно для всей струнно-смычковой педагогики. Благодаря работам и лекциям Б. А. Струве в музыкальных училищах и вузах был введён предмет «Методика обучения игре на инструменте», и музыканты смогли приобретать не только исполнительские умения, но и педагогические навыки.
Необыкновенно значимую для скрипичной педагогики работу по вопросам скрипичной интонации оставил нам И. А. Лесман (1885–1955). Ученик и последователь Л. С. Ауэра, он до поступления в консерваторию обучался в Военно-Медицинской академии. В круг интересов И. А. Лесмана входили знания по физиологии высшей нервной деятельности, истории, философии, эстетике. Однако музыка была его главным делом. Работа, посвящённая вопросам правильной интонации, глубоко научна и одновременно очень практична. К тому же она учитывает музыкальную составляющую: «Под чистотой интонации следует разуметь стройность и выразительность целых смысловых построений музыки…» [6, с. 201]. Взяв за основу натуральный Пифагоров строй и опору на чистые интервалы (чистые кварты, чистые квинты, октавы, примы), он на большом количестве опытов убедительно доказал наличие объективной истины в скрипичной интонации. Будучи хорошо знакомым с основами психофизиологических исследований И. А. Лесман сумел объединить работу по воспитанию интонационного слуха с воспитанием и развитием необходимых двигательных навыков. Замечательный педагог и мастер своего дела заложил крепкий фундамент безупречной скрипичной интонации уже на практике. Опора на результаты его исследований не только облегчает работу ученику и педагогу, но и делает её чрезвычайно увлекательной и музыкально выразительной.
Несколько серьёзных научных исследований в лаборатории Московской консерватории провёл Н. А. Гарбузов (1880–1955). В частности, «Внутризонный интонационный слух и методы его развития» (1951), «Зонная природа темпа и ритма» (1950) и другие, где внимание уделялось тембровому и динамическому слуху. О результатах этих исследований лучше и точнее всего сказал он сам: «Исследования эти показали, что при воспроизведении… музыкальных звуков, интервалов, темпа, ритма, динамических оттенков мы оперируем не точечными величинами, а довольно широкими зонами, которые дают нам значительную свободу исполнения музыкального произведения» [4, с. 5]. Это означало, что нота, по высоте и времени звучания обладающая устойчивостью, имеет ещё и некоторую вариативность, сохраняя основную звуковысотную характеристику. В результате открывались дополнительные выразительные возможности для исполнительского дарования скрипача. Для слушателя в этом случае факт восприятия приобретает более широкий диапазон.
Серьёзный вклад в научную проработку вопросов воспитания исполнительского аппарата скрипача внёс профессор Ленин-градской/Петербургской консерватории О. Ф. Шульпяков (1936–2013). Две диссертации этого замечательного музыканта и учёного «Техническое развитие музыканта исполнителя» (1973) и «Музыкальноисполнительская техника и художественный образ» (1986), вместе с другими его исследованиями, в 2006 году были изданы единой книгой под общим названием «Скрипичное исполнительство и педагогика». Нужно отметить, что научно обоснованную теорию работы двигательной сферы скрипача создал не учёный, владеющий игрой на инструменте, а скрипач, исполнитель и педагог, владеющий научным знанием. Эти знания опирались на результаты исследований, проведённых учёным-физиологом Н. А. Бернштейном (1896–1966), изложенных им в работе «Физиология движений и активность» (создавалась в конце 1940-х годов XX века). В этих исследованиях учёный сформировал концепцию непрерывности взаимодействия человека с окружающей средой, предложил пять уровней построения движений, с их поуровневой опережающей коррекцией, показал, что «… формирование двигательного навыка есть на каждом этапе активная психомоторная деятельность» [3, с. 326]. Очень непростые для изучения результаты исследований Н. А. Бернштейна О. Ф. Шульпяков сумел переложить в область скрипичного исполнительства и педагогики. На этой основе он сформировал теорию технического развития скрипача в вопросах организации его игровых действий, обосновал мысль о диалектическом взаимодействии технической и художественной сторон его развития: «Необходимо признать, что не только техника зависит от художественного замысла, но и сам замысел складывается в значительной степени под воздействием техники» [13, с. 196]. Под его руководством и с опорой на психофизиологические исследования несколько педагогов-скрипачей защитили серьёзные диссертации: Станко А. А., «Исполнительский аппарат скрипача как система, сформированная в процессе обучения (1985); Сильд О. П., «Структура комплексов профессиональных знаний и умений (1987), Шальман С. М., «Взаимодействие навыков в процессе системного формирования исполнительской техники скрипача» (1992) и др. В этом смысле можно говорить о создании целой школы.
Представленные работы, отражают научное направление в истории развития скрипичной педагогики. Тематически они различаются и тем способствуют расширению кругозора педагогов-скрипачей не только в области музыкального исполнительства, но технического совершенствования учащихся, что является фундаментом гармоничного развития музыканта-струнника. В этом направлении проводили исследования Б. А. Михаловский, А. И. Ямпольский, Ю. И. Янкелевич, К. Г. Мо-страс, В. Ю. Григорьев, В. Х. Мазель и др. В разные годы результаты этих исследований были изданы и пополнили базу знаний в области психофизиологии, о которой говорил Ф. Штейнгаузен.
Таким образом, мы видим, что обращение к результатам психофизиологических исследований в скрипичной педагогике исторически подготовлено и практически абсолютно необходимо. Их использование существенно облегчает задачу воспитания двигательной культуры скрипача. Степень такого использования, разумеется, имеет свои отличия, потому что педагогическая интуиция, практический опыт и творческий поиск всегда будут сохранять свою действенную силу. Однако знание нужного механизма действия, точное представление об исполнительском приёме позволяет быстрее наработать правильный навык и тем сократить время его освоения, а значит – совершенствования. В результате время на подготовку музыкального произведения существенно сокращается, что расширяет творческие возможности исполнителя. Другая сторона вопроса заключается в выявлении причин, приводящих к нарушени- ям двигательных исполнительских действий. Знания в области психофизиологии позволяют установить причину, исправить ошибки и даже предупредить их появление. В целом вся работа приобретает более высокий качественный уровень. Исполнитель может обойтись без научного подхода, педагог – нет. В его судьбе ученики будут встречаться с разными особенностями, и готовность к их воспитанию должна быть основательной.
Важным на современном этапе развития скрипичной педагогики является тот факт, что у большинства педагогов-скрипачей обращение к данным психофизиологических исследований становится необходимостью. Они помогают подтвердить педагогическую догадку, послужить импульсом к новым поискам, решить назревшую проблему, привести разрозненные сведения в единую систему и выстроить собственную концепцию воспитания исполнителя-скрипача. С помощью знаний такого рода педагог может отстоять правильную позицию и убедить скептиков, которые встречаются среди старших учащихся. Во всех случаях эти действия связаны с практическим опытом и подтверждаются или опровергаются им же. Важно, что они гармонично дополняют друг друга.
Список литературы Психофизиологические исследования как основа развития скрипичной педагогики в XX веке
- Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. Москва: Музыка, 1965. 271 с.
- Берлянчик М. М. Искусство и личность. Статьи и выступления. Книга 2. Москва: Центральная Музыкальная Школа при Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского, 2009. 380 с.
- Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность / Под ред. О. Г. Газенко. Москва: Наука, 1990. 494 с.
- Гарбузов Н. А. Зонная природа темпа и ритма. Москва: Академия наук СССР, 1950. 73 с.
- Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки. Санкт-Петербург: Общественная польза, 1875. 594 с.
- Лесман И. А. Очерки по методике обучения игре на скрипке. Москва: Музгиз, 1964. 272 с.
- Лобанова М. Н. Музыкальный стиль и жанр: История и современность. Москва-Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2015. 208 с.
- Руденко В. И. Лекции по методике обучения игре на скрипке. / ред.-сост., вступ. ст. Т. Б. Суханова. Москва: Дека - ВС, 2018. 236 с.
- Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга. Москва: АСТ, 2015. 352 с.
- Струве Б. А. Профилактика профессиональных заболеваний музыкантов: смычковая группа. Ленинград: Тритон, 1934. 80 с.
- Струве Б. А. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. Москва: Музгиз, 1952. 228 с.
- Штейнгаузен Ф. Физиология ведения смычка. Москва: Музторг ПТО МОНО, 1930. 108 с.
- Шульпяков О. Ф. Скрипичное исполнительство и педагогика. Санкт-Петербург: Композитор, 2006. 496 с.