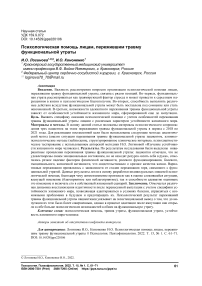Психологическая помощь лицам, пережившим травму функциональной утраты
Автор: Логинова Ирина Олеговна, Кононенко Ирина Олеговна
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Медицинская психология
Статья в выпуске: 1 т.15, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Важность рассмотрения вопросов организации психологической помощи лицам, пережившим травму функциональной утраты, связана с рядом позиций. Во-первых, функциональная утрата рассматриваться как травмирующий фактор стресса и может привести к серьезным нарушениям в жизни и психологическом благополучии. Во-вторых, способность выполнять различные действия вследствие функциональной утраты может быть поставлена под сомнение или стать невозможной. В-третьих, возможности адекватного переживания травмы функциональной утраты зависят от особенностей устойчивости жизненного мира, сформированной еще до ампутации. Цель. Выявить специфику оказания психологической помощи с учетом особенностей переживания травмы функциональной утраты лицами с различным характером устойчивости жизненного мира. Материалы и методы. В основу данной статьи положены материалы психологического сопровождения трех пациенток на этапе переживания травмы функциональной утраты в период с 2018 по 2021 годы. Для реализации поставленной цели были использованы следующие методы: аналитический метод (анализ ситуации переживания травмы функциональной утраты пациентом, клинико-психологические методы (наблюдение, структурированное клиническое интервью, психодиагностическое тестирование с использованием авторской методики И.О. Логиновой «Изучение устойчивости жизненного мира человека»). Результаты. По результатам исследования были выделены инвариантные проявления переживания травмы функциональной утраты: пациентки отмечали, что не удовлетворены своим эмоциональным состоянием, но не находят ресурса «взять себя в руки», отмечалось резкое падение факторов физической активности, ролевого функционирования, болевого, эмоционального, жизненной активности, что свидетельствовало о кризисе качества жизни. Вариативные переживания проявлялись с зависимости от стадии переживания горя, связанного с функциональной утратой. Данные результаты легли в основу разработки индивидуальных мишеней психологической помощи, благодаря чему жизнеизменение произошло как в оценке сложившейся ситуации, влекущей изменение (благоприятное или неблагоприятное), так и способности адекватно оценивать это изменение и включать его в собственный жизненный сценарий. Заключение. Отмечается различная динамика восстановления идентичности после перенесенной ампутации с учетом специфики устойчивости жизненного мира, позволяющая адаптироваться в условиях болезни, справляться с возможными проблемами в будущем и предотвращать их. Психологический результат переживаний травмы функциональной утраты пациентками указывает на экзистенциальный вывод о том, что до ампутации их тело было более совершенным, однако в процессе адаптации после ампутации они открыли в себе больше психологических возможностей в обмен на функциональную утрату.
Психологическая помощь, травма утраты, функциональная утрата, устойчивость жизненного мира человека
Короткий адрес: https://sciup.org/147237531
IDR: 147237531 | УДК: 159.9.072
Текст научной статьи Психологическая помощь лицам, пережившим травму функциональной утраты
Функциональная потеря из-за физического нарушения и связанной с этим инвалидности может произойти в любой момент на протяжении жизни, и во многих случаях она связана с проблемами, которые кардинально меняют жизнь человека. Ампутация – это операция, при которой врач отсекает пораженную конечность (всю или ее часть) для спасения жизни человека. C одной стороны, это выбор в пользу жизни, с другой – это переживание функциональной потери, которое сопряжено с проявлением тревоги, депрессии, потерей смысла жизни.
Ампутация нижних конечностей (АНК) нередко оказывается единственным шансом, позволяющим сохранить жизнь пациентов с выраженными изменениями в сосудах нижних конечностей [1, 2]. В США ежегодно выполняется 60–70 тысяч АНК [3]. В Скандинавских странах большие по объему АНК проводятся в течение года почти у 250 человек на один миллион населения [4–6]. В Москве ежегодно частота высоких АНК составляет около 500 операций на 1 миллион населения [7]. Согласно исследованию C.A. Kalbaugh et al. (2020), с 2000 по 2016 год доля ампутаций, выполненных только по поводу хронической ишемии, снизилась с 60 до 40 % (p < 0,001), в то время как доля ампутаций, которые включали инфекцию при наличии хронической ишемии, почти удвоилась с 20 до 40 %
(р < 0,001). Ампутации, обусловленные онкологическими заболеваниями или травмой, были стабильны на протяжении всего периода исследования [8].
Тяжелая травма, например приобретенная инвалидность, может рассматриваться как травмирующий фактор стресса и может привести к серьезным нарушениям в жизни и психологическом благополучии [9]. Впоследствии человек должен иметь дело с изменениями в функциональности своего физического «я» или даже с потерей части (частей) тела, что может привести к изменениям в его теле и самооценке, также могут произойти различные другие телесные изменения, такие как потеря физического комфорта, изменения подвижности и недостаток жизненных сил. Кроме того, способность выполнять различные действия может быть поставлена под сомнение или стать невозможной [10].
Поскольку такого рода ампутации могут иметь изнурительные и изменяющие жизнь результаты, крайне важно, чтобы был известен масштаб исходов и объяснены любые вариации в распространенности, чтобы можно было принять подходящие и целенаправленные профилактические меры [11], хотя в реальности это возможно в ограниченном количестве случаев, а в остальных – ампутации случаются внезапно, не позволяя психологически подготовить пациента к оперативному жизнеизменяющему вмешательству.
Ампутация конечности ставит перед пациентом ряд физических, психических и социальных проблем:
-
– в жизни человека происходят изменения, обусловленные нарушением соматических и телесных функций;
-
– появляется боль, протезирование становится проблемой для человека;
-
– перемены ждут его на работе и/или в семье;
-
– возникает необходимость адаптации к изменениям в образе тела, самооценке [12].
Эти факторы стресса представляют собой серьезную проблему для человека, есть большая разница в том, кто в процессе адаптации после ампутации может восстановить свое эмоциональное, душевное равновесие, а кто демонстрирует просто неадаптивный ответ или более низкое качество адаптации, которые существенным образом зависят от особенностей устойчивости жизненного мира, сформированной еще до ампутации.
Современное состояние проблемы и степень разработанности проблемы исследования . Теоретический анализ проблемы функциональной утраты позволяет выделить несколько направлений исследований в психологической науке.
Первое направление – исследования идентичности. В ходе функциональной утраты, обусловленной ампутацией конечности, человек теряет идентичность (жизнь его «расслаивается» на до и после, утрачивая непрерывность и целостность) и базовое доверие к миру, поскольку ампутация представляет собой необратимый хирургический вариант, который приводит к потере восприятия целостности, физическим недостаткам и даже физическому уродству, многие из которых обычно приравниваются к потере супруга [13].
Второе направление – исследование психоэмоционального состояния после ампутации. В исследованиях указывается, что потеря конечности может вызвать дистресс не только из-за потери части тела, но также из-за ограничения ролей и необходимости адаптации к изменившимся вариантам образа жизни. Человек, перенесший ампутацию, может подвергаться риску развития депрессивного расстройства из-за множества факторов, таких как чувство потери, самостигма и трудности с преодолением нарушения [12]. Так, в исследовании A. Sahu et al. (2016) показано, что в выборке мужчин с ампутацией нижних конечностей, вызванной в первую очередь травматическим фактором (автомобильные, железнодорожные аварии взрывы и т. п.), распространенность психических расстройств находится в диапазоне от 32 до 84 %, включая уровень депрессии от 10,4 до 63 %, посттравматические стрессовое расстройство 3,3– 56,3 % и феномен фантомной конечности 14– 92 %. Хотя исследования показали, что симптомы тревожности и депрессии со временем улучшаются, тем не менее специалистам по хирургическому лечению необходимо поддерживать связь с психиатрами и психологами для совместных реабилитационных действий [14].
Сообщается также, что ампутация конечностей является серьезным стрессовым событием для человека: депрессия и тревожность относительно высоки в течение двух лет после ампутации, после этого они имеют тенденцию к снижению до обычных популяционных норм. Тем не менее социальный дис- комфорт и беспокойство по поводу образа тела также были обнаружены у некоторых людей с ампутациями, и они были связаны с повышенным ограничением активности, депрессией и тревогой.
Факторы, связанные с положительной адаптацией к потере конечности, включали более длительное время с момента ампутации, большую социальную поддержку, большее удовлетворение протезом, активные попытки выживания, оптимистичный настрой личности [15]. Это подтверждается исследованиями, в которых отмечается, что более высокий уровень тревожных симптомов и функциональных возможностей перед операцией был связан с более низкой социальной адаптацией к ампутации и с более высокой адаптацией к ограничениям соответственно; симптомы травматического стресса были отрицательно связаны с общей и социальной адаптацией, а также с приспособлением к ограничениям [16].
Третье направление – исследования качества жизни. Известно, что ампутация может привести к ухудшению качества жизни пациента [17]. В исследовании P.St.L. Cox et al. (2011) проведено сравнение качества жизни пациентов в зависимости от высоты ампутации [18]. Так, пациенты с ампутированными конечностями ниже колена имели более высокие баллы по качеству жизни (p < 0,05) и функциональной независимости (p < 0,0001) по сравнению с лицами с ампутированными конечностями выше колена. Результат также показал, что женщины имели значительно более высокий средний балл, чем мужчины, по четырем областям качества жизни (p < 0,0001). Большинство женщин во всех возрастных группах сообщили о среднем или высоком КЖ (p < 0,0001) по сравнению с мужчинами. Положительная корреляция (r = 0,5999, p < 0,0001) была обнаружена между функциональной независимостью и качеством жизни всех участников [18].
Известны случаи, когда пациенты достигали по истечении 2 месяцев после операции значительного функционального улучшения и уменьшения боли, несмотря на их социальную дисфункцию, отсутствие социальномедицинской поддержки в виде специальных реабилитационных мероприятий [19].
В целом, анализ ситуации, сложившейся вокруг проблемы функциональной утраты человеком, указывает на необходимость учета особенностей личности пациента в плане его способности/неспособности противостоять стрессовым факторам, принять жизненный вызов и адаптироваться к произошедшим изменениям, наличия/отсутствия устойчивости жизненного мира, готовности/неготовности принять психологическую помощь ради поддержания качества жизни.
Целью настоящего исследования стало выявление специфики оказания психологической помощи с учетом особенностей переживания травмы функциональной утраты лицами с различным характером устойчивости жизненного мира.
Методы и материалы. В основу данной статьи положены материалы психологического сопровождения пациентов на этапе переживания травмы функциональной утраты в период с 2018 по 2021 годы. Исследование соответствовало этическим стандартам био-этического комитета Красноярского государственного медицинсого университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, разработанным в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта» с поправками 2013 г. и Приказом Минздрава РФ от 01.04.2016 г. № 200н «Об утверждении правил надлежащей клинической практики». У всех лиц, участвующих в исследовании, получено информированное согласие на участие в нем.
В выборку исследования включены три пациентки, переживающие травму функциональной утраты и обратившиеся за психологической помощью в период с 2018 по 2021 г. Проведенный анализ опыта оказания психологической помощи вышеуказанным пациентам носит описательный характер и выполнен в жанре научного описания клинического случая, реализованного в реальных условиях клинической практики. Известно, что публикации такого рода «вносят заметный вклад в медицинскую науку и практику, формируют опыт и структурируют знания медицинских специалистов» [20].
Для реализации поставленной цели были использованы следующие методы :
-
1) аналитический метод: анализ ситуации переживания травмы функциональной утраты пациентом;
-
2) клинико-психологические методы: наблюдение, структурированное клиническое интервью;
-
3) психодиагностическое тестирование с использованием авторской методики И.О. Логиновой «Изучение устойчивости жизненного мира человека» [21].
Результаты и их обсуждение
На первом этапе были проанализированы ситуации переживания травмы функциональной утраты пациентом.
Пациент 1: Женщина, возраст 43 года, была проведена ампутация на уровне верхней трети голени вследствие перенесенного краш-синдрома в результате автомобильной аварии. На момент встречи с психологом находилась на первой стадии переживания горя с отрицанием факта потери конечности. Состояние ее можно охарактеризовать как «онемение», распространившееся на весь организм и психику: пациентка утратила аппетит, были искажены вкусовые ощущения, тактильные ощущения, восприятие времени и реально происходящих событий.
Пациент 2: Женщина, возраст 41 год, утрата конечности на уровне нижней трети бедра произошла вследствие возникших осложнений в ходе планового лечения (синдром Байуотер-са). На момент встречи с психологом находилась на переходе от первой стадии переживания горя ко второй, который характеризовался «размораживанием» эмоций, возникновением острых переживаний злости, тревоги, сомнения в собственной нужности близким, переживанием беспомощности и одиночества, разочарований, связанных с ожиданием от лечения.
Пациент 3: Женщина, возраст 45 лет, утрата конечности на уровне верхней трети бедра вследствие ампутации (критическая ишемия нижней конечности). На момент встречи с психологом находилась на второй стадии переживания горя, с характерным для этого периода высоким уровнем тревоги и депрессии, обусловленными восприятием болезни как «краха» жизни, с тенденцией к «застреванию» в роли жертвы.
На втором этапе были проведены клинические интервью с пациентками и наблюдение за их реакциями, в ходе которого было выяснено их отношение к случившимся в их жизни событиям и особенностям переживаний.
Общими (инвариантными) для пациенток явились следующие переживания, возникшие в раннем послеоперационном периоде (на третьи сутки) и длящиеся до 14-го дня после операции:
-
– ожидание негативных последствий ампутации, пессимистический взгляд на будущее;
-
– ощущение неопределенности;
-
– сниженное настроение, негативное суждение по поводу происходящего, безрадостность;
-
– бессонница;
– снижение аппетита.
Пациентки отмечали, что не удовлетворены своим эмоциональным состоянием, но не находят ресурса «взять себя в руки». В этот же период отмечалось резкое падение факторов физической активности, ролевого функционирования, болевого, эмоционального, жизненной активности, что свидетельствовало о кризисе качества жизни.
Вариативные переживания проявлялись с зависимости от стадии переживания горя, связанного с функциональной утратой, и выглядели следующим образом:
Пациент 1: переживание времени как остановившегося, замершего; происходящие события воспринимались как наблюдаемые со стороны, как не имеющие отношения к самой пациентке; производимые с ней медицинские манипуляции (перевязки, осмотры и т. д.) были сюрреалистичны («это не может быть со мной», «это не мое тело»), вызывали состояние фрустрации.
Пациент 2: переживание беспомощности («я сама не могу…» что-то сделать); переживание амбивалентного чувств – с одной стороны, стремление к одиночеству («побыть одной», «осмыслить произошедшее»), а с другой, – невозможность самостоятельно выполнять действия по самообслуживанию («я без помощи другого даже до туалета доехать не могу: пересесть на каталку, с каталки на унитаз…», «не могу с каталки привстать, чтоб достать зубную щетку и почистить зубы»), собственной ненужности близким («как другие воспримут известие об утрате конечности»; «они все своим делом заняты – учатся, работают, а надо будет мною заниматься»).
Пациент 3: переживание ситуации как окончания жизни («жизнь в таком виде жизнью и назвать нельзя»; «моя жизнь на этом и закончится…»), переживание «я – жертва» («почему это со мной?», «как я теперь буду?», «я теперь могу быть только смиренной, молчать, выслушивать упреки, я ведь буду в тягость»).
Третьим этапом исследовательской программы была произведена оценка устойчиво- сти жизненного мира пациенток. Результаты представлены в табл. 1.
У Пациентки 1 (30 баллов) и Пациентки 3 (28 баллов) выявлена стагнационная устойчивость, которая характеризует таким образом организованный человеком процесс жизнедеятельности, который ориентирован на использование ранее сформированных форм взаимодействия с окружающим миром, зачастую неадекватных условиям настоящей жизненной ситуации. Обычно при стагнационной устойчивости жизненного мира наблюдается снижение рефлексивной способности, доминирование стереотипных продуктов жизнедеятельности, неспособность к решению творческих задач, невозможность адекватно оценить собственные жизненные дефициты.
Пациентка 2 (51 балл) демонстрирует неконструктивную устойчивость, которая характеризует таким образом организованный человеком процесс жизнедеятельности, который не способствует сохранению здоровья, личностному росту и творчеству. Неконструктивный характер проявления устойчивости жизненного мира снижает продуктивность и оптимальность жизнедеятельности человека за счет потери самотождественности, недостатка ресурса (собственного потенциала, условий среды) для разрешения противоречия между образом мира и образом жизни, нарушения непрерывности личностной истории, утраты целей и смыслов жизнедеятельности, отсутствия равновесия между реальностью и желаемой гармонией.
На основе совокупности данных были выделены мишени психологической помощи (табл. 2).
Выделение мишеней психологической помощи и ее организация для пациентов данного профиля важно потому, что травматиче-
Таблица 1
Table 1
Результаты сравнительного анализа устойчивости жизненного мира пациенток
Comparative analysis of human life-world stability assessment
|
Исследуемый параметр Parameter |
Первая пациентка First patient |
Вторая пациентка Second patient |
Третья пациентка Third patient |
|
Временной модус событий Time perception |
Прошлое / past |
Прошлое / past Настоящее / resent Будущее / future |
Прошлое / past Настоящее / present |
|
Соотношение глаголов Verb tenses and their ratio |
Настоящее / present – 10 % прошлое / past – 90 % |
Прошлое / past – настоящее / present – будущее / future – в равных долях / equally |
Настоящее / present – 30 % прошлое / past – 70 % |
|
Критерий выбора содержания описываемых событий Choice of content for described events |
Топологический Topological |
Биографический Biographical |
Биографический Biographical |
|
Общий эмоциональный фон событий Emotional background |
Нейтральный Neutral |
Отрицательный Negative |
Отрицательный Negative |
|
Значение описываемых событий в жизни Significance of described events |
Завершение линии развития Finishing the development line |
Удержание общей направленности линии развития Maintaining the general line |
Завершение линии развития Finishing the development line |
|
Отношение к событиям Event perception |
Рациональное Rational |
Ответственное Responsible |
Рациональное Rational |
|
Непрерывность личностной истории Continuity of a personal history |
Отсутствует Absent |
Проявляется на отдельных этапах Present at certain stages |
Отсутствует Absent |
|
Рефлексивная позиция автора Reflective thinking |
Отсутствие рефлексивного отношения Absent |
Рефлексивное отношение ситуативно Present in certain situations |
Отсутствие рефлексивного отношения Absent |
Таблица 2
Table 2
Мишени психологической помощи пациенткам
Targets of psychological care
В наших случаях в зависимости от тех или иных мишеней психологической помощи, включенных последовательно в работу с пациентками, жизнеизменение произошло как в оценке сложившейся ситуации, влекущей изменение (благоприятное или неблагоприятное), так и в возможности включать его в собственный жизненный сценарий. При этом информативным показателем явился не сам факт обнаружения мишеней психологической помощи, а его жизнеизменяющий потенциал, определяющий способность модифицировать свои возможности в условии функциональной утраты.
Ранее в проведенных под нашим руководством исследованиях была выделена факторная структура, описывающая специфиче- ские психологические характеристики пациентов с критической ишемией нижних конечностей. Наиболее значимыми в системе жизнеизменяющих процессов являются жизненная активность, снижение которой происходит под влиянием тяжести протекания заболевания, жизнестойкость как показатель способности пациента противостоять стрессовой ситуации, обусловленной болезнью. Значительную роль в жизнеизменяющих процессах играют ролевое, социальное и возрастное функционирование, которые осложняют течение болезни, выделенное в отдельный фактор [22].
В процессе работы с психологом пациентки осознавали свой способ жизни, степень вовлеченности в процесс излечения или уменьшения влияния клинической симптоматики на жизнь, сопровождающуюся переживанием принятия ограничений и потерь.
Задача, которую для себя решала каждая пациентка, – ответить на экзистенциальные вопросы своей жизни и пересмотреть некоторые из ответов таким образом, чтобы сделать жизнь более аутентичной и полноценной.
Замечено, что в интересах адаптации к жизни после ампутации пациенты должны справляться с возникающими изменениями и трудностями, а также с проблемами психологического функционирования. Для них важно принять изменения в своем теле и личности и интегрировать их в новую самооценку, в которой мотивация процесса является фундаментальной проблемой [13]. Отмечается, что пациенты с более высокой устойчивостью к адаптации более успешны, чем пациенты, которые используют негативные стратегии адаптации.
Путь, который проходили данные пациентки, по переоценке роли тела в своей идентичности был различным. У Пациентки 1 это заняло шесть месяцев, у Пациентки 2 – 3,5 месяца, у Пациентки 3 – 8,5 месяца. На этом пути было много разочарований, они касались несовершенства тела и той функциональной утраты, которую они пережили. Все пациентки сходились в одном – до ампутации их тело было более совершенным, однако в процессе адаптации после ампутации они открыли в себе больше психологических возможностей в обмен на функциональную утрату.
Несмотря на довольно подробное описание работы с данными пациентками, наше исследование имеет несколько ограничений, в основном относящихся к вопросам выборки, которые заслуживают упоминания:
-
1) описательный характер представленных клинических случаев, невозможность доказательности выводов;
-
2) трудность получения информации о психологических особенностях пациенток до оперативного вмешательства, что затрудняет оценку динамических изменений, обусловленных ампутацией нижних конечностей. Тем не менее полученные данные позволяют обозначить перспективы и возможности психологической работы с пациентами данного профиля.
Заключение
В целом, обобщая результаты исследования, связанные с организацией и реализацией психологической помощи с учетом особенностей переживания травмы функциональной утраты лицами с различным характером устойчивости жизненного мира, можно сделать следующие выводы.
Функциональная утрата из-за физического нарушения и связанной с этим инвалидности существенно меняет жизнь человека, представляя собой серьезную проблему для человека, справиться с которой он может в зависимости от особенностей устойчивости жизненного мира.
Динамика жизнеизменяющих процессов пациентов с функциональной утратой зависит от учета особенностей личности пациента в плане его способности/неспособности противостоять стрессовым факторам, принять жизненный вызов и адаптироваться к произошедшим изменениям, наличия/отсутствия устойчивости жизненного мира, готовности/ неготовности принять психологическую помощь ради поддержания качества жизни.
Выделение мишеней психологической помощи и ее организация для пациенток данного профиля с различной устойчивостью жизненного мира позволило повысить степень вовлеченности в процесс излечения, уменьшения влияния клинической симптоматики на жизнь, сопровождающуюся переживанием принятия ограничений и потерь.
Отмечается различная динамика восстановления идентичности после перенесенной ампутации с учетом специфики устойчивости жизненного мира, позволяющая адаптироваться в условиях болезни, справляться с возможными проблемами в будущем и предотвращать их.
Список литературы Психологическая помощь лицам, пережившим травму функциональной утраты
- Абышов Н.С., Закирджаев Э.Д. Ближайшие результаты «больших» ампутаций у больных с окклюзивными заболеваниями артерий нижних конечностей // Хирургия. 2005. № 11. С. 15-19.
- Васильченко Е.М. Динамика частоты ампутаций нижней конечности в городе Новокузнецке. Ретроспективное исследование // Медицина в Кузбасе. 2018. T. 17. № 4. С. 5-10.
- Wrobei J.S., Mayfield J.A., Reiber G.E. Geographic variation of lower extremity major amputation in individuals with and without diabetes in the medicare population // Diabetes Care. 2005. Vol. 24(5). P. 860-864.
- Eskelinen E., Luther M., Eskelinen A. Infrapopliteal bypass reduces amputation incidence in elderly patients: a population-based study // European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2003. Vol. 26, № 1. P. 65-68.
- Eskelinen E., Lepantalo M., Hietala E.M. Lower limb amputation in Southern Finland in 2000 and Trends up to 2001 // European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2004. Vol. 27, № 2. P.193-200.
- Improved amputation-free survival in unreconstructable criticallimb ischemia and its implications for clinical trial design and quality measurement / E. Benoit, T.F. Jr O'Donnell, G.D. Kitsios et al. // Journal of Vascular Surgery. 2012. Vol. 55, № 3. P. 781-789.
- Савельев B.C., Кошкин В.М., Каралкин А.В. Патогенез и консервативное лечение тяжелых стадий облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. М.: МИА. 2010. 214 с.
- Trends in Surgical Indications for Major Lower Limb Amputation in the USA from 2000 to 2016 / C.A. Kalbaugh, P.D. Strassle, N.J. Paul et al. // European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2020. № 6 (60). DOI: https://doi.Org/10.1016/j.ejvs.2020.03.018
- Limb amputation / D. M. Desmond, L. Coffey, P. Gallagher et al. / Ed. P. Kennedy // The Oxford handbook of rehabilitation psychology. Oxford University Press. 2012. P. 351-367. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199733989.013.0020
- Marini I., Stebnicki M.A. (Eds.). The psychological and social impact of illness and disability (6th ed.). Springer Publishing Company. 2012.
- Epidemiology of major lower limb amputation using routinely collected electronic health data in the UK: a systematic review protocol / A. Meffen, C.J. Pepper, R.D. Sayers, L.J. Gray // Epidemiology Protocol. 2020. № 6. DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-037053
- Panyi L.K., Labadi B. Pszichologiai alkalmazkodas alsovegtag-amputaciot kovetoen // Orvosi Hetilap. 2015. Vol. 156(39). P. 1563-1568. DOI: https://doi.org/10.1556/650.2015.30257
- Parkes C.M. Components of the reaction to loss of a lamb, spouse or home // Journal of Psychosomatic Research. 1972. Vol. 16(5). P. 343-349. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-3999(72)90087-6.
- Psychological effects of amputation: A review of studies from India / A. Sahu, R. Sagar, S. Sarkar, S. Sagar // Industrial Psychiatry Journal. 2016. Vol. 25(1). P. 4-10. DOI: https://doi.org/10.4103/0972-6748.196041
- Horgan О., MacLachlan М. Psychosocial adjustment to lower-limb amputation: a review // Disability and Rehabilitation. 2004. Vol. 26. P. 837-850. DOI: https://doi.org/10.1080/09638280410001708869
- Psychosocial adjustment to a lower limb amputation ten months after surgery / S. Pedras, E. Vilhena, R. Carvalho, M.G. Pereira // Rehabilitation Psychology. 2018. Vol. 63(3). P. 418-430. DOI: https://doi.org/10.1037/rep0000189
- Szkody E., McKinney C. Appraisal and social support as moderators between stress and physical and psychological quality of life // Stress and Health. 2020. Vol. 36 (5). P. 586-595.
- Cox P.St.L., Williams S.K.P., Weaver S.R. Life after lower extremity amputation in diabetics // West Indian Medical Journal. 2011. Vol. 60(5). P. 536-540.
- Pain, functional status, social function and conditions of habitation in elderly unilateraly lower limb amputees / А. Durovic, D. Ilic, Z. Brdareski, А. Plavsic, S. Durdevic // Vojnosanitetski pregled. 2007. Vol. 64(12). P. 837-843. DOI: https://doi.org/10.2298/vsp0712837d.
- Кекелидзе З.И., Трущелёв С.А. Формат представления клинического случая в научном журнале. Методические рекомендации // Российский психиатрический журнал. 2017. № 2. С. 54-58.
- Логинова И.О. Исследование устойчивости жизненного мира человека: методика и психометрические характеристики // Психологическая наука и образование. 2012. Т. 17. № 3. С. 18-28.
- Попенко Н.В., Логинова И.О., Черданцев Д.В. Исследование факторов, определяющих жизнеизменяющие процессы пациентов с критической ишемией нижних конечностей // Сибирское медицинское обозрение. 2012. № 4. С. 72-75.