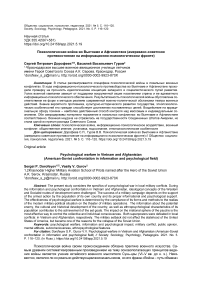Психологическая война во Вьетнаме и Афганистане (американо-советское противостояние на информационно-психологическом фронте)
Автор: Дорофеев Сергей Петрович, Гуров Василий Васильевич
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается специфика психологической войны в локальных военных конфликтах. В ходе информационно-психологического противоборства во Вьетнаме и Афганистане проходили проверку на прочность идеологические концепции западного и социалистического путей развития. Успех военной кампании зависит от поддержки вооруженной акции населением страны и ее адекватного информационно-психологического обеспечения. Результативность психологической войны обусловлена соответствием ее форм и методов реалиям современной военно-политической обстановки театра военных действий. Знание вероятного противника, культурно-исторического развития государства, этнопсихологических особенностей его граждан способствует достижению поставленных целей. Воздействие на иррациональную сферу психики - наиболее действенный способ контроля над массовым и индивидуальным сознанием. Обе сверхдержавы потерпели поражение в локальных конфликтах: во Вьетнаме и Афганистане соответственно. Военная неудача не отразилась на государственности Соединенных Штатов Америки, но стала одной из причин распада Советского Союза.
Психологическая война, информационно-психологическое воздействие, военный конфликт, общественное мнение, установка, подсознание, этнопсихологические особенности
Короткий адрес: https://sciup.org/149134689
IDR: 149134689 | УДК: 355.4(597+581) | DOI: 10.24158/spp.2021.5.19
Текст научной статьи Психологическая война во Вьетнаме и Афганистане (американо-советское противостояние на информационно-психологическом фронте)
Психологическая война своим происхождением обязана практике военного искусства. Самым древним систематизированным произведением на тему основополагающих принципов ведения войны является учение китайского военного мыслителя Сунь-цзы (VI–V вв. до н. э.). Неизвестно, являлся ли он реально действующим военачальником, но его фраза «Война – путь обмана»
-
[1, с. 34] стала методологической базой для современных концепций психологической войны в США, Японии и западноевропейских странах. Наставления Сунь-цзы не забыли и на его родине – они использовались на практике вооруженными силами Коммунистической партии Китая в ходе второй и третьей гражданских войн и борьбы против японских захватчиков [2, с. 96, 123, 295].
История войн и военного искусства доказала, что вооруженное насилие в отношении противной стороны обеспечивает достижение цели, помимо военного превосходства, при лояльности к этой акции граждан собственной страны и адекватном информационно-психологическом сопровождении действий вооруженных сил. Игнорирование данных обстоятельств ведет к поражению.
В практике межгосударственных отношений в процессе многовековой истории человечества чередовались редкие периоды мирного сосуществования с актами вооруженного насилия, применением военной силы. Однако и в мирное время, тем более в ходе боевых действий, не прекращалась психологическая война.
Безуспешные попытки американской администрации напрямую ослабить основы советской государственности привели к поиску обходных путей для выявления слабого звена в идеологических построениях социалистического строя. Информационно-психологическое противоборство между США и СССР во Вьетнаме и Афганистане стало проявлением глобальной конфронтации на уровне локального военного конфликта.
Сам термин «психологическая война» впервые стал известен в 1920 г. после опубликования работ британского историка Дж. Фуллера, посвященных Первой мировой войне [3, с. 53]. Понятие «психологические операции» обрело право на существование в 1945 г. в связи с формированием американских военных планов в отношении Японии [4]. Наиболее краткая характеристика особенностей психологической войны принадлежит П. Лайнбарджеру: «Психологическая война преследует достижение военных успехов без применения военной силы» [5, с. 62]. Современные определения данного феномена близки по содержанию [6, с. 91; 7, с. 78; 8, с. 66; 9, с. 428]. Их объединяет отражение психологической сущности явления – деформация личностной и массовой стабильности психических процессов [10, с. 210] в целях заполнения символического пространства конструктами, отвечающими замыслам коммуникатора. В самом общем виде в информационно-психологическом противоборстве можно выделить два аспекта: холодная война как средство влияния на политические процессы в странах с неугодными режимами в условиях отсутствия реальных боевых действий и психологическая война, связанная с подрывом морально-боевого духа личного состава войск противника на поле боя и ослаблением психологической устойчивости гражданского населения в тылу.
Психологическая война не обошла стороной и сферу внутренней политики: охота на ведьм в США (начало 50-х гг. XX в.), борьба с врагами народа в 1930-е гг. при советской власти и т. д. Таким образом, психологическая война стала инструментом не только внешней, но и внутренней политики государств различной идеологической направленности. Современные массмедиа во много раз усилили действенность психологического влияния на массовое сознание широких слоев населения. В работах отечественных ученых и специалистов С.И. Беглова, Д.А. Волкогонова, В.И. Григорьева, С.А. Зелинского, В.Г. Крысько, Г.Г. Почепцова, М.Ф. Слинкина, С.Г. Фогеля рассматриваются роль и место средств массовой информации в идеологической борьбе на международной арене, вопросы контрпропаганды и противодействия идеологическим диверсиям западных стран, социально-психологическая специфика пропагандистской коммуникации и др. Однако особенности содержания и методов психологической войны в конкретных условиях театров военных действий разработаны недостаточно. Фундаментальные исследования в области теории и практики психологической войны провели ряд зарубежных авторов: М. Чукас, У.Ф. Дэвисон, У. Догерти, М. Яновиц, Р. Эллул, П. Лайнбарджер, Г.Д. Лассуэлл, М. Лиссан и др.
В сложившихся международных обстоятельствах большое теоретическое и практическое значение приобретает информационно-психологическое сопровождение деятельности президента, органов государственной власти России внутри страны и за рубежом, позволяющее сформировать адекватный образ внутренней и внешней политики для граждан.
Обоснование начала военной кампании имеет важное геополитическое значение как для создания благоприятного общественного мнения в собственной стране и за рубежом и осуществляется, как правило, средствами психологической войны. США и СССР решали этот вопрос по разным сценариям.
5 августа 1964 г. американский конгресс принял Тонкинскую резолюцию, которая санкционировала вступление США во вьетнамскую войну. Предлогом послужили сообщения средств массовой информации о нападении «коммунистических катеров Северного Вьетнама на американские суда в Тонкинском заливе» (имеется в виду эсминец «Мэддокс») [11]. Вьетнамская сторона не отрицала данного инцидента, но исходила из констатации факта нарушения территориальных вод Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) американскими военными кораблями.
Стереотипизация понятия «коммунистический» в сочетании с термином «угроза», насаждаемая в западном мире не одно десятилетие, вызвала понимание ответной реакции США в американском обществе. Конгресс страны почти единодушно проголосовал за военную акцию против ДРВ.
В отличие от Соединенных Штатов Америки власти СССР ограничились минимумом информации для советских граждан о начале военной кампании, что свидетельствует о неубедительной легитимности подобного решения и наличии сомнений относительно консолидации общественного мнения внутри государства.
Американские СМИ основной акцент в информационно-психологической работе с населением своей страны делали на обосновании тезиса о «справедливом характере» войны против Северного Вьетнама. При этом подчеркивалось, что победу следует ожидать в ближайшем будущем. Образ врага ассоциировался с уже упомянутым стереотипом коммунистической угрозы, нависшей над свободами и ценностями западного мира. Этот символ, закрепленный в подсознании американского обывателя, создавал благоприятную почву для развития темы национального единства и консолидации с внешней политикой администрации США. В арсенале западных массмедиа рациональная аргументация не считалась эффективным средством воздействия на массовое сознание. Поэтому подчеркивание значимости одних фактов в противовес другим, замалчивание третьих, мешающих конструированию требуемого образа события, позволяли повышать уровень суггестии (внушения) и успешно эксплуатировать иррациональную сферу сознания адресата информации.
Надежды американского общества на быстрое и победоносное завершение войны во Вьетнаме, а точнее – войны с мифической коммунистической угрозой, стали исчезать после 1968 г. Этому способствовали, в частности, американские СМИ, транслировавшие обывателю более правдивую информацию о событиях во Вьетнаме, а также мировое общественное мнение [12].
Коллективное руководство Советского Союза в составе Политбюро ЦК КПСС, не избавившееся от иллюзий доктрины пролетарского интернационализма, совершило ошибку, позволив втянуть себя в неприемлемый по политическим и экономическим соображениям военный конфликт. Афганская кампания была для СССР локальной по характеру, но при этом была призвана подтвердить жизнеспособность социалистического пути развития в полуфеодальной стране. В письме президенту США З. Бжезинский, занимавший в 1977–1981 гг. должность советника по национальной безопасности в администрации президента Дж. Картера, отмечал, что с переходом афганской границы СССР получит «свою вьетнамскую войну» [13, p. 241–242].
Советский Союз с началом афганской кампании вел информационно-пропагандистскую работу по двум направлениям: внутреннему – в масштабах страны, а также внешнему – на территории Афганистана – среди гражданского населения и вооруженных противников кабульского режима. Для советской аудитории этой войны фактически не существовало до 1986 г. В соответствии с материалами средств массовой информации СССР оказывал интернациональную помощь Демократической Республике Афганистан, которая сопровождалась периодическими стычками с вооруженными оппозиционерами, несущими намного большие потери, чем наши войска. С началом перестройки новое руководство во главе с М.С. Горбачевым взяло курс на девальвацию решения о начале военной кампании в Афганистане, а участники вооруженного конфликта лишались героических черт «интернационалистов» в силу сформированного мнения о «несуществующей» войне.
Несмотря на географическую близость, многолетнюю экономическую помощь афганскому народу, эта страна осталась неразгаданной ни с культурно-исторической, ни с этнопсихологической точек зрения. Этим объясняются многие просчеты в информационно-пропагандистской работе с гражданским населением и членами вооруженных бандформирований, связанные с механическим переносом прошлого опыта на совершенно неподготовленную почву.
Если советские органы спецпропаганды обладали устаревшим грузом организации политической работы среди войск и населения противника в боевых условиях времен Великой Отечественной войны, то Соединенные Штаты к началу боевых действий во Вьетнаме располагали переосмысленным опытом психологических операций в Корее. Американцы решили свернуть неэффективную идеологическую конфронтацию на уровне рациональной аргументации в пользу воздействия на участки головного мозга, отвечающие за удовлетворение элементарных потребностей (по классификации А. Маслоу). Необходимость выжить в период кризиса обусловлена в основном примитивными инстинктами людей, поэтому и психологические операции должны опираться на элементарные эмоции [14, с. 162].
С начала военной акции во Вьетнаме штат пропагандистов в сухопутной армии США насчитывал свыше 1 000 человек, из которых 118 прекрасно владели вьетнамским языком. Наряду с этими профессиональными кадрами к сотрудничеству привлекались сотни вьетнамцев, знающих нравы, обычаи, суеверия своего народа. Эффективным в психологической войне считалось задействование мифологической составляющей образа жизни местного населения. Для этого в процессе монтажа звуковещательных передач использовалась буддийская погребальная музыка, записанные на пленку крики диких зверей, которые, по замыслу авторов, должны были изображать лесных духов и демонов, вопли ужаса, отчаянный женский и детский плач.
Однако самыми действенными и болезненными для суеверных вьетнамцев были обращения «блуждающих душ» [15]. Американские специалисты внимательно изучили местные народные поверья. В соответствии с традициями предков считалось, что воины, погибшие в ходе боев, должны быть похоронены на земле предков. Иной исход считался недопустимым. Если этого не происходило, то души непогребенных скитались по земле и тревожили живущих. Эта особенность национальной психологии не ускользнула из поля зрения американских экспертов. По периметру деревень на парашютах сбрасывались магнитофоны с временными реле, которые периодически в течение ночи включали и выключали их. С применением «криков с неба» количество перебежчиков увеличилось более чем в 3 раза – с 120 до 380 человек в месяц. Начало боевых операций американцы планировали, как правило, на дни, которые по традиционным поверьям являлись неблагоприятными и заранее предвещали поражение.
Основными темами американских пропагандистских материалов являлись внушение чувств страха и бессилия перед военной мощью США, неизбежность смерти в случае вооруженного сопротивления, апелляция к необходимости заботиться о родных и близких. Об эффективности психологических операций говорит тот факт, что за период боевых действий около 250 тыс. вьетнамцев добровольно перешли на сторону противника [16, с. 465]. По подсчетам специалистов, расходы американской армии на то, чтобы убить одного вьетнамца, составили в среднем 100 тыс. долл., в то время как на убеждение в необходимости перехода на сторону США – 125 долл.
Подводя итоги психологической войны во Вьетнаме, можно констатировать, что американцы за время конфликта распространили более 50 млрд листовок, т. е. по 1 500 шт. на каждого жителя Северного и Южного Вьетнама. Американские телевизионные станции вещали 6 часов в сутки. В 1971 г. около 80 % населения Южного Вьетнама (гражданская и военная аудитории) могли смотреть телепередачи. Для радиопропаганды использовались американские и южновьетнамские радиостанции, а также некоторые радиостанции Таиланда, Тайваня, Филиппин и Австралии, работавшие под непосредственным контролем спецслужб США. Передачи велись на вьетнамском языке и в разгар боевых действий охватывали 95 % жителей страны при общей продолжительности вещания 24 часа в сутки.
Информационно-психологическое воздействие американцев на военные формирования и гражданское население Вьетнама в рамках спецопераций было эффективным и массированным, но поражения в войне избежать не удалось. Главная причина – утрата поддержки граждан собственной страны и негативная позиция мирового общественного мнения.
К сожалению, военно-политическим руководством СССР американский опыт не был учтен в ходе информационно-психологического сопровождения боевых действий в Афганистане. Качество и эффективность информационно-психологических мероприятий не всегда соответствовали менталитету полуфеодального общества, охват аудитории советскими и кабульскими средствами массовой информации и спецпропаганды оказался незначительным и не обеспечил сколько-нибудь существенного влияния на общественное мнение внутри страны. Более подробно особенности организации деятельности органов спецпропаганды политических структур Советской армии во время афганской кампании рассмотрены в нашей статье «Спецпропаганда в Афганистане (1979–1989)» [17].
Таким образом, исследование позволяет выделить особенности индивидуальной психики и массовой психологии, которые целесообразно использовать для коррекции информационнопсихологического воздействия, разработки методов оценки морально-психологической специфики войск и населения противника, формирования критериев анализа результативности деятельности.
Материал дает возможность подготовить практические рекомендации по выявлению наиболее слабых звеньев морально-психологического состояния противника, построению научно обоснованных тактики и стратегии информационно-психологического влияния. Профессионализм сотрудников органов психологической войны, массированность информационного воздействия при условии всестороннего учета этнопсихологических факторов повышают восприимчивость аудитории к формируемым образам.
Список литературы Психологическая война во Вьетнаме и Афганистане (американо-советское противостояние на информационно-психологическом фронте)
- Конрад Н.И. Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве : перевод и исследование. Л., 1950. 404 с.
- Мао Цзэдун. Избранные произведения по военным вопросам : пер. с кит. М., 1958. 398 с.
- Почепцов Г.Г. Психологические войны. М., 2000. 523 с.
- Там же.
- Лайнбарджер П. Психологическая война : пер. с англ. М., 1962. 350 с.
- Беглов С.И. Внешнеполитическая пропаганда. Очерк теории и практики : учебное пособие. М., 1980. 366 с.
- Волкогонов Д.А. Психологическая война. Подрывные действия империализма в области общественного сознания. М., 1984. 320 с.
- Информационная война. Информационное противоборство: теория и практика : монография / под ред. В.М. Щекотихина. М., 2011. 999 с.
- Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). Минск, 1999. 447 с.
- Соколова Д.В. Отношение СМИ и правительства США в годы Вьетнамской войны // Век информации. Журналистика и войны. К 100-летию Первой мировой войны : материалы международной научной конференции / отв. ред. Л.П. Громова. СПб., 2015. С. 204-214.
- Беглов С.И. Указ. соч.
- Соколова Д.В. Указ. соч.
- Gibbs D.N. Afghanistan: The Soviet Invasion in Retrospect // International Politics. 2000. Vol. 37, no. 2. P. 233-245.
- Караяни А.Г. Военная психология : учебник и практикум для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2020. 593 с.
- Токов Е.В., Касюк А.Я. Психологические операции вооруженных сил США в войнах и конфликтах XX в. // Зарубежное военное обозрение. 1997. № 6. С. 16-23.
- Волковский Н.Л. История информационных войн. В 2 ч. СПб., 2003. Ч. 1. 507 с.
- Дорофеев С.П. Спецпропаганда в Афганистане (1979-1989) // Межвузовский сборник научных трудов / КВВАУЛ. Краснодар, 2020. Вып. 24. С. 266-270.