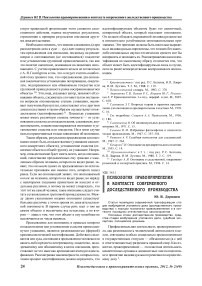Психология правоприменения в контексте современного доследственного производства
Автор: Деришев Юрий Владимирович
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Социально-психологические и педагогические аспекты деятельности правоохранительных органов
Статья в выпуске: 2 (49), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена современной трансформации стадии возбуждения уголовного дела (доследственного производства) с позиции психологии правоприменения и в контексте последних отечественных законопроектов.
Доследственное производство, средства стадии возбуждения уголовного дела, судебная экспертиза, полицейское дознание
Короткий адрес: https://sciup.org/14989149
IDR: 14989149 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Психология правоприменения в контексте современного доследственного производства
Профессиональная деятельность правоприменителя, как разновидность человеческой деятельности в целом, отягощена особым социальным предназначением и государственным статусом — обязанностью (а с ней и ответственностью) разрешить правовой спор. Как известно, правоприменение — это властная деятельность компетентных органов и должностных лиц по подготовке и принятию индивидуального решения по юридическому делу 1.
Применение права связано с разрешением конкретного жизненного случая, определенной правовой ситуации. Это приложение закона, общих правовых норм к конкретным лицам, конкретным обстоятельствам. Внешним фактором, определяющим характер и направленность правоприменения, выступает общественное правовое сознание в составе двух его взаимопроникающих структурных элементов: общественной психологии и правовой идеологии 2. В связи с этим особое место в правоприменительной деятельности занимают ее психологические и социальные факторы, которые все более становятся предметом исследования не только общей теории права, но и отдельных отраслевых наук. В связи с этим «волевой характер и властность действий правоприменителя обусловлены не столько психологическими чертами его личности, сколько его официальным положением и властным характером соответствующих правовых предписаний» 3. Это в полной мере влияет на все его самооценки.
Вместе с тем очевидно и влияние мотивации правоприменительной деятельности — одного из основных элементов психологического механизма действия правовых норм и влияния юридических фактов.
Определяя мотивацию правоприменительной деятельности как совокупность мотивов (причин, доводов) совершения правоприменительных действий, В. В. Лазарев выделяет мотивацию необходимости установления фактической основы дела (выяснение того, что, где и когда произошло); мотивацию необходимости выбора правовых актов, опосредующих решение дела (нормативное обоснование); мотивацию вынесения решения по делу (аккумулирование мотивов предшествующей деятельности и осознание потребности такого удовлетворения интересов) 4. При этом особое место в данном процессе занимают психолого-правовые установки правоприменителя, что во многом определяет природу мотивации, ее осознанный или неосознанный характер.
Данные теоретические наблюдения и выводы в полной мере и со всей очевидностью проявляются в современном правоприменительном процессе в сфере уголовного судопроизводства. Поистине, теория не расходится с практикой. Многочисленные экспертные оценки современной правотворческой и правоприменительной ситуации в итоге сводятся к одному выводу: уголовно-процессуальная политика государства последних лет крайне противоречива и нестабильна. Перманентный, суетливый, зачастую сиюминутный характер развития законодательства об уголовном судопроизводстве кроме раздражения у представителей как правоприменительного, так и теоретического «цеха» иных эмоций не вызывает 5.
Нельзя не признать, что многочисленные изменения и дополнения законодательства обоснованы иногда предметными идеями совершенствования уголовного судопроизводства. Вместе с тем довольно часто это становится лишь продуктом притязаний (и не всегда легитимных) отдельных заинтересованных и причастных к уголовному судопроизводству ведомств и служб 6. При этом под сакраментальным девизом усиления гарантий прав и интересов личности предлагается введение новых процессуальных возможностей и даже институтов (например, объективной истины), одновременно повышающих эффективность деятельности правоохранительных ведомств.
Вместе с тем здесь достаточно очевидно просматривается банальный системный интерес — эффективнее решать свои задачи, зачастую узковедомственные и, как уже отмечалось, спонтанные. Так, в последние годы в правоохранительной среде идет бескомпромиссная борьба с прекращением уголовных дел. Количество дел, по которым принимаются подобные решения, постоянно сокращается. Если в последнем десятилетии ХХ в. прекращалось каждое 5–6-е уголовное дело, то в настоящее время — не более чем каждое 20-е! В контексте соблюдения принципов презумпции невиновности и осуществления правосудия только судом тенденцию сокращения случаев «внесудебных уголовных репрессий» можно приветствовать.
В соответствии с Пекинскими правилами 1985 г., рассчитанными на кураторские охранительные начала деятельности юридической системы, уголовный процесс по делам несовершеннолетних должен допускать бо´ль-шую возможность прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям без судебной процедуры. Вместе с тем доля уголовных дел данной категории, направленных в суд с постановлением о применении принудительных мер воспитательного воздействия в порядке ст. 427 УПК РФ, не превышает 4,5%, прекращенных по иным основаниям — 2,5% 7. Все дела практически направляются в суд! Поистине «модели российской карательной и «пекинской» кураторской юстиции органически несовместимы» 8.
Подобный путь развития правоприменительной практики породил, на наш взгляд, еще одну серьезную проблему. Не секрет, что в настоящее время следователями Следственного комитета РФ проводится большой объем работы по проверке информации о криминальных событиях в рамках так называемых доследственных проверок.
Гипертрофированное внимание современной правоприменительной практики к вопросам законности и обоснованности принятия решения о возбуждении уголовного дела, естественно, приводит к раздуванию сроков и объема доследственного производства. Материалы проверок, проводимых следователями Следственного комитета РФ (и не только ими) по сообщениям о преступлении, сравнимы с томами расследованных уголовных дел. Вместе с тем в 2011 г. по 1,5 млн проверенных сообщений лишь в 7% случаев (около 110 тыс. сообщений о преступлении) следователями принималось решение о возбуждении уголовного дела, в 42,1% случаев принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления (92,8% от всех случаев вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела).
В результате Следственный комитет РФ объективно трансформировался в орган дознания по проверке сообщений о преступлении, однако, оставаясь по назначению, «по духу» исследователем обстоятельств совершенного преступления, проводит расследование, но в стадии возбуждения уголовного дела. Подчеркнем, уголовный процесс активно ведется в случае, когда еще нет уголовно наказуемого правонарушения. Фактически в данной стадии идет поиск не признаков преступления, т. е. оснований к возбуждению уголовного дела, а определяется судебная перспектива и тем самым предупреждается и предотвращается возможность прекращения уголовного преследования! Очередной перекос и парадокс!
В связи с этим неписаный запрет Генеральной прокуратуры РФ, МВД России и Следственного комитета РФ на прекращение уголовных дел как крайне негативный результат досудебного производства все больше по инициативе данных правоохранительных органов «обеспечивается» законодателем. Именно Следственный комитет РФ в последнее время выступает заинтересованным инициатором процесса всемерного расширения перечня правовых средств в стадии возбуждения уголовного дела, т. е. процессуальных возможностей правоприменителя (это подтверждает, в частности, введение в УПК РФ разрешения на доследственное производство освидетельствования и осмотра трупа).
В этом смысле особо следует отметить проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 62 и 303 УК РФ и УПК РФ», направленный на трансформацию общего порядка осуществления дознания по уголовным делам, проверки сообщения о преступлении и привлечения понятых к участию в уголовном судопроизводстве.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в «целях обеспечения прав и законных интересов участников на этапе досудебного производства и создания всех необходимых условий для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом уточняется (выделено нами. — Ю. Д .) процедура проверки сообщения о преступлении».
Это «уточнение» заключается в предложении расширить полномочия органов предварительного расследования при проверке сообщения о преступлении, предоставив им право получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, а также изымать их, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта, производить осмотр места происшествия, трупа, предметов и документов, освидетельствование.
Проведение в случае необходимости судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела при явной экономии столь дефицитного экспертного ресурса, как указано в пояснительной записке, позволит следствию принимать необходимые решения на основе процессуально безупречных доказательств, полученных в установленном порядке. Действительно, проблема специальных исследований «до и для» возбуждения уголовного дела давно беспокоит правоприменителя. Однако решаться она должна иначе.
Для обеспечения реализации прав и законных интересов участников доследственной проверки законопроектом предлагается установить несколько своеобразные процессуальные гарантии. Лицам, участвующим в производстве следственных и иных процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права, обязанности и ответственность, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы , в частности, возможность осуществления права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников, права пользоваться услугами адвоката или права подавать жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования. Вопрос один: кому разъяснять и чьи права обеспечивать? Субъекты уголовного процесса, в соответствии с УПК РФ, формируются лишь в рамках возбужденного уголовного дела.
Законопроектом фактически предлагается дослед-ственный «суррогат предварительного расследования». Точнее, последнее плавно перетекает в стадию возбуждения уголовного дела.
Вместе с тем решение проблемы стадии возбуждения уголовного дела лежит совсем в иной плоскости. Досудебное производство как единая (унитарная) фаза уголовного процесса, предшествующая судебному разрешению уголовного дела, должно начинаться осуществляемым в рамках уголовно-процессуального и административного (оперативно-разыскного) законодательства полицейским дознанием в целях проверки заявлений и сообщений о противоправных действиях и установления оснований для начала производства предварительного расследования по уголовному делу, а также раскрытия преступления и либо передаче дела следователю для производства предварительного следствия, либо направлении дела в суд после проведения сокращенного (ускоренного) расследования, осуществляемого органами дознания. В связи с этим УПК РФ следует дополнить нормой общего дозволения, определяющей общий порядок производства по проверке сведений о преступлении (аналогия ст. 254 Устава уголовного судопроизводства), а правовые средства полицейского дознания должны регламентироваться административным (оперативно-разыскным) законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами. При этом производство по преступлениям, где лицо, его совершившее, не установлено, должно начинаться в форме полицейского дознания с возможностью осуществления необходимых следственных действий. Подобное уголовное дело подлежит передаче следователю после установления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности (либо органы дознания завершают досудебное производство в сокращенной форме).
Последнее положение было известно русскому уголовному процессу. Согласно ст. 253 Устава уголовного судопроизводства «когда признаки преступления или проступка сомнительны, или когда о происшествии, имеющем такие признаки, полиция известится по слуху (народной молве) или вообще из источника не вполне достоверного, то, во всяком случае, прежде сообщения о том по принадлежности, она должна удостовериться через дознание : действительно ли происшествие то случилось и точно ли в нем заключаются признаки преступления или проступка». Кроме того, ст. 254 УУС определяла средства: «При производстве дознания полиция все нужные ей сведения собирает посредством розысков, словесными расспросами и негласными наблюдениями, не производя ни обысков, ни выемок в домах», т. е., если пользоваться современной терминологией, в рамках оперативно-разыскной (административной полицейской) деятельности.
Для установления характера и правовой природы правонарушения, о котором поступило сообщение, в российском праве необходимо предусмотреть единое производство , задачей которого должно выступать установление оснований для возбуждения преследования в рамках отдельных видов юридической ответственности (уголовной, административной, гражданско-правовой и т. п.).
В связи с этим досудебное производство должно начинаться осуществляемым в режиме административного и оперативно-разыскного законодательства (а если необходимо, то и в рамках уголовно-процессуального) полицейским дознанием по проверке заявлений и сообщений о противоправных действиях и установлению оснований для производства предварительного расследования по уголовному делу, а также по раскрытию преступления и либо передаче дела следователю для производства предварительного следствия, либо направлению дела в суд после проведения сокращенного (ускоренного) расследования, осуществляемого органами дознания.
Не менее очевиден еще один парадокс, связанный с исследуемым документом: рассматриваемым законопроектом предлагается ввести сокращенный порядок дознания, когда уголовное дело не представляет правовой и фактической сложности, а причастность лица к совершению преступления не вызывает сомнения.
Так, предусматривается сокращенный срок производства дознания, который, по общему правилу, не должен превышать 15 суток (с возможностью продления его в исключительных случаях до 20 суток), ограничиваются пределы доказывания (доказательства будут собираться в объеме, минимально необходимом для установления события преступления и обстоятельств причастности к нему обвиняемого фактически без производства следственных действий).
Как указано в пояснительной записке, введение сокращенного порядка дознания позволит достичь существенной процессуальной экономии, расширить диспозитивные начала при реализации подозреваемым (обвиняемым) права на защиту, а потерпевшим — права на доступ к правосудию.
Вместе с тем, как представляется, позитивная идея ускорения судопроизводства может «утонуть» в сложной, противоречивой и бюрократической процедуре начала и окончания дознания.
Фактически одним законопроектом, с одной стороны, предлагается расширить возможности доследствен-ного производства, с другой — сократить дальнейшее производство по делу. Зачем тогда проводить предварительное расследование, если в стадии возбуждения уголовного дела уже установлена судебная перспектива (можно сказать, следственная истина)?
Таким образом, в результате активного действия внешних факторов на психологию современного правоприменения у субъектов данной деятельности формируется социально-психологическая установка подмены официального предварительного расследования его доследственным субститутом . Очевидно, что психологическая мотивация правоприменения по этой причине связана не столько с реализацией нормативной программы деятельности, т. е. решением задач уголовного судопроизводства, сколько с системной установкой обеспечения внешне эффективного функционирования отдельных государственных структур, перед которыми данные задачи ставятся государством.
-
1 Теория государства и права: учебник для вузов / отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 238.
-
2 Фарбер И. Е . Правосознание как форма общественного сознания. М., 1963. С. 60, 94; Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 124.
-
3 Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты применения права. Казань, 1982. С. 29.
-
4 Там же. С. 110–115.
-
5 См., напр.: Орлов Ю. К. «Обязан» или «вправе»? К чему ведет «лингвистическая» новация в УПК РФ // Рос. юстиция. 2003. № 10. С. 39; Зорькин В. Д. Законный брак. За ошибки законодателя расплачиваются граждане // Рос. газ. 2006. 7 июля; Терехин А. В. Некоторые достижения и просчеты современной судебной реформы // Рос. юстиция. 2008. № 10. С. 2–6; Божьев В. П. Сущность изменений в УПК РФ от 2 декабря 2008 г. // Законность. 2009. № 5. С. 3–6; Сауляк О. П. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: некоторые проблемы качества закона и практики его применения // Закон. 2009. № 10. С. 121; и др.
-
6 Ляхов Ю. А. Приоритеты уголовно-процессуального законодательства // Гос-во и право. 2010. № 8. С. 43.
-
7 Одной из причин формирования подобной негативной практики явилось многолетнее разрушение на уровне кодификации специализации по расследованию дел несовершеннолетних. Лишь Федеральным законом от 28 дек. 2010 г. № 404-ФЗ законодатель дополнил ч. 2 ст. 151 УПК РФ пунктом «г», согласно которому уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, с 1 янв. 2012 г. расследуются следователями Следственного комитета РФ. (Рос. газета. 2010. 30 дек.).
-
8 Пашин С. А. Пекинские правила и некоторые положения российского уголовного законодательства (сопоставление моделей кураторской и карательной юстиции) // Вопросы ювенальной юстиции. 2011. № 4. С. 13–15.
Список литературы Психология правоприменения в контексте современного доследственного производства
- Теория государства и права: учебник для вузов/отв. ред. В. Д. Перевалов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 238.
- Фарбер И. Е. Правосознание как форма общественного сознания. М., 1963. С. 60, 94
- Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 124.
- Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты применения права. Казань, 1982. С. 29.
- Орлов Ю. К. «Обязан» или «вправе»? К чему ведет «лингвистическая» новация в УПК РФ//Рос. юстиция. 2003. № 10. С. 39
- Зорькин В. Д. Законный брак. За ошибки законодателя расплачиваются граждане//Рос. газ. 2006.
- июля; Терехин А. В. Некоторые достижения и просчеты современной судебной реформы//Рос. юстиция. 2008. № 10. С. 2-6
- Божьев В. П. Сущность изменений в УПК РФ от 2 декабря 2008 г.//Законность. 2009. № 5. С. 3-6
- Сауляк О. П. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: некоторые проблемы качества закона и практики его применения//Закон. 2009. № 10. С. 121; и др.
- Ляхов Ю. А. Приоритеты уголовно-процессуального законодательства//Гос-во и право. 2010. № 8. С. 43.
- Рос. газета. 2010. 30 дек.
- Пашин С. А. Пекинские правила и некоторые положения российского уголовного законодательства (сопоставление моделей кураторской и карательной юстиции)//Вопросы ювенальной юстиции. 2011. № 4. С. 13-15.