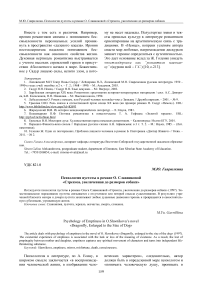Психология пустоты в романе О. Славниковой "Стрекоза, увеличенная до размеров собаки"
Автор: Гаврилкина Маргарита Юрьевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Исследуется психология пустоты в романе Ольги Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» (1997). Экзистенциальное переживание пустоты связывается с отсутствием или потерей смысла существования. В результате утраченной близости матери и дочери пустота захватывает любые душевные движения героинь и превращается в самостоятельную субстанцию, угрожающую жизни.
Славникова, пустота, зеркало, несчастье, смерть, сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/148179867
IDR: 148179867 | УДК: 821.0
Текст научной статьи Психология пустоты в романе О. Славниковой "Стрекоза, увеличенная до размеров собаки"
Психологизм в литературе, по А. Есину, в широком смысле заключается «в воспроизведении человеческой жизни, в изображении чело- веческих характеров», следовательно, автор должен быть в определенной мере психологом и «понимать человеческую душу, проникать в скрытые мотивы поступков, словом – изучать человека» [1, с.2]. Воссоздание писателем человеческого характера, безусловно, – явление психологическое, а потому правомерно говорить о психологии того или иного явления, воплощенного в рамках художественной условности.
Психология пустоты – едва ли не главный конструктивный элемент прозы Ольги Славни-ковой. Ее персонажи погружены в одно чувство: странное, вязкое переживание одиночества, с которым связано неизбежное столкновение с пустотой. Давление пустоты испытывают на себе Вика и Антонов («Один в зеркале»); Иван ощущает присутствие своей возлюбленной Тани неуловимым, как сама пустота («2017»), а в рассказе «Басилевс» главная героиня выступает олицетворением этой пустоты и способна поглощать все вокруг. Пустота у Славниковой проявляется сущностно и всегда ощутима в человеческих взаимоотношениях.
Первый роман автора – «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» (1997) – изобилует образами, которые так или иначе связаны с пустотой: незаполненным пространством, отсутствием как таковым или состоянием душевного опустошения. Посвященный отношениям самых близких людей, роман не может быть глубоко и полно охарактеризован без учета психологизма как доминанты стиля. Вместе с тем психологический феномен пустоты позволяет выявить новые грани интерпретации текста, за которыми подчас скрывается ключ к пониманию основных смыслов. Внутреннее состояние опустошения, которое свойственно героям романа, во многом определяет развитие как сюжетной линии, так и композиции в целом.
В романе «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» Славниковой переживание пустоты тесно связано с образом зеркала, которое несет повышенную идейно-художественную нагрузку: душевные состояния персонажей открываются благодаря его отражательному модусу. Чувство пустоты, умножаясь в зеркале, становится непреодолимым и окружает героя со всех сторон. Взаимосвязь понятий «зеркало» и «пустота» концептуализирована в философии буддизма: зеркало, подобно пустоте, способно вмещать (отражать) любые объекты [3]. Отражение не является материальным: к нему, как к пустоте, нельзя прикоснуться, попробовать на вкус. Метафизика зеркальности проявляется в том, что отражения не всегда выдают симметрию и могут деформировать окружающий мир в кривизне отражающей поверхности или хранить следы предшествующих отражений.
На первый взгляд, пустоту нельзя исказить, ведь пустота - это то, чего нет , но в романе Славниковой пустота, изначально выступающая в качестве пространственной и вещной характеристики, трансформируется в душевное состояние героев. Открываясь как чувственное переживание, она умножается отражением и становится доминантой мироощущения и сутью экзистенции.
Психология пустоты проявляется в истории взаимоотношений матери и дочери, живущих в тесном пространстве однокомнатной квартиры. Их совместное существование искусно замаскировано лоском внешних приличий, на поверку оказывающихся видимостью: под флером социального благополучия скрывается десятилетиями копившееся взаимное раздражение.
Исключительной эту историю можно назвать уже потому, что она рассказана в совершенно особой повествовательной манере. Герои романа, связанные семейными узами, казалось бы, самые близкие родственники, тем не менее никогда не говорят друг с другом. Взаимоотношения матери и дочери, условно говоря, следует назвать немыми, или некоммуникативными, поскольку в тексте не содержится ни одного диалога, ни одной реплики прямой речи, ни даже привычной читателю формы внутреннего монолога. «Озвучивание» осуществляется повествователем, который в общей структуре романа становится одним из центральных «зеркал» – в нем преломляются событие и персонаж с его психикой. Именно нарратор ищет для передачи скованности каждого героя причудливый словарь души, не сходный с языком повседневности. Здесь пустота выражает молчание как отсутствие значимых слов и связанное с этим чувство взаимного непонимания и одиночества. Сама Славникова определяет содержанием зоны молчания «тихий ужас повседневной жизни», при котором близкие люди избирательно занимаются издевательством друг над другом, собственными усилиями создавая ситуацию этого ужаса и взаимной ненависти.
Трагедия повседневности разворачивается в замкнутом пространстве небольшой однокомнатной квартиры, где в «пустоте нарисованных комнат» [4, с.111] на соседних, зеркально расположенных кроватях ютятся мать и дочь. Эта изначально заявленная зеркальность определяет иллюзию буквального повтора. Роман начинается с похорон матери, Софьи Андреевны, когда ее дочь, Катерина Ивановна, к этому моменту уже взрослая женщина, точно так же одинока, как была одинока ее мать на протяжении всей своей жизни. Большая часть повествования отводится существованию этих женщин примерно в один возрастной период. Номинируя героинь преимущественно как Софья Андреевна и Катерина Ивановна, Славникова убирает между ними возрастную разницу. Смещая временные пласты, автор представляет детство и взросление Катерины Ивановны параллельно с молодостью Софьи Андреевны – в форме воспоминаний. Такое de'ja` vu не случайно. В тексте неоднократно подчеркивается одинаковость, похожесть матери и дочери, а представление обеих в одном возрасте усиливает ощущение зеркальных копий: даже спят они в одинаковых позах и переворачиваются с боку на бок синхронно. Глядя на дочь, «Софья Андреевна испытывала настоящий страх – извечный ужас оригинала перед копией, сходный со страхом смерти», в то время как Катерина Ивановна с детства «мысленно повторяла за матерью то и другое – просто так, без всякой цели. Даже черты Катерины Ивановны всю жизнь послушно следовали ее чертам», и, стоя друг перед другом, мать и дочь «были гораздо более одинаковы, чем рядом: различия поглощала пустота, которая и сама была никакой» [4, с.80, 111, 180].
Душевная пустота героинь, как правило, не сопровождается конкретным описанием психических состояний. Софья Андреевна и Катерина Ивановна никогда не говорят о своих переживаниях и уж тем более не в состоянии почувствовать и правильно понять настроение друг друга. Чувства как будто переворачиваются, искажаются в восприятии, и то, что чувствует одна, никогда не находит отклика в другой. Отрицая своего «двойника», героини одновременно отрицают себя.
В резком контрасте с изображением внутреннего мира героев текст романа изобилует детальными характеристиками окружающего мира: автор тщательно вырисовывает каждую мелочь интерьера или пейзажа, тем самым создавая иллюзию наполненности. Но при отсутствии субъекта ощущение пустоты только возрастает: в переполненном вещами мире не остается места любви, душевной близости, человеческим отношениям.
Еще ребенком Катерина Ивановна стесняется своей матери-учительницы, от которой пахнет как из «открытой стиральной машины» [4, с.44], но это, в сущности, есть «стеснение» себя самой, поскольку слишком уж они похожи, и в девочке живо это ощущение, живо чувствование матери, которое, тем не менее, остается неудовлетворенным. Их отношения подчеркнуто конфликт- ны и даже протестны. Когда Софья Андреевна впервые заболевает, дочь, не отыскав аспирина, дает ей неизвестную таблетку. Получив задание вызвать «скорую», девочка не спешит выполнить просьбу, и Софья Андреевна, наблюдая из окна, как дочь ест во дворе грязный снег, обвиняет ее в злом умысле: «Вдруг до Софьи Андреевны дошло, что девчонка глотает снег, чтобы тоже простудиться и не ухаживать за матерью, что ей лучше лежать больной и голодной, чем принести для матери стакан воды. Именно этого Софья Андреевна от нее и ждала» [4, с.51].
Катерина Ивановна в сущности обречена зеркально отражать чувства матери: она, в свою очередь, «подумала, что все-таки мать заболела нарочно (курсив авторский. - М.Г .) <...> Девочке было нисколько не стыдно и не жалко мать, просто страшновато не чувствовать того, что полагается » (курсив мой. - М.Г. ) [4, с.55]. Эта фраза определяет эмоциональную атмосферу всего романа, поскольку и Катерина Ивановна, и Софья Андреевна только и делают, что чувствуют друг друга, но мучаются своей неспособностью чувствовать то, что полагается .Они принципиально не способны к выражению эмоций, адекватных происходящему в настоящий момент событию и принятой в отечественной культурной традиции этике семейных отношений, когда «хочется к маме – прилечь щекой на ее подушку и не знать никаких забот» [4, с.48].
Следовательно, психологический конфликт обусловлен физическим законом отталкивания одинаково заряженных частиц. По мысли З. Фрейда, «дочь видит в матери человека, мешающего ее нежным отношениям к отцу и занимающего место, которое с радостью заняла бы сама девочка» [2, с.186]. Катерина Ивановна растет без отца, и его место остается пустым, но враждебность к матери сохраняется по инерции. Любая смена диспозиции двойников вызывает необходимость освоения нового качества пустоты: «Так получилось, что раньше болела только дочь <…> Теперь же девочка совершенно растерялась. По эту сторону болезни было гораздо страшнее, чем по ту, – пусто и очень одиноко» [4, с.44-45].
Между матерью и дочерью находится не стена непонимания, а зеркало, демонстрирующее их внешнее сходство и идентичность самоощущения. Истинные чувства, попадая в зеркало, переживаются как условность «чужой» – «не моей» – жизни, т.е. реальности «снятой», ненастоящей.
Одно из центральных состояний в романе – состояние Катерины Ивановны-ребенка. Струк- тура ее детских чувств полярна. Девочка осознает, что все окружающее ее искусственно, неподлинно, что эмоции ее не соответствуют ситуации, и она как и всякий ребенок любит мать, но, тем не менее, эти ощущения зеркально отражаются, переворачивая когда-то правильные чувства. Задавленная психологическим напором матери, абсолютно бесполым воспитанием, не способная к сближению с другим человеком в принципе, она уже в детстве обделена возможностью общения с другими людьми. Ощущение жестко замкнутого в своих границах существования возникает у Катерины Ивановны в результате отсутствия собственного Эго. В привычном понимании взросление каждого человека сопровождается рождением самосознания, персонально отделяющего его от мира и создающего ощущение целостности своего «я», которое заполняется индивидуальным опытом, формирует личность. К.Г. Юнг отмечал, что человек, утративший детскую непосредственность и взамен усвоивший искусственные манеры, теряет свои корни. «Все это представляет благоприятную возможность для столь же враждебного противостояния первичной истине» [5, с.98]. Для Катерины Ивановны оторванность от матери означает оторванность от мира в целом, самоощущение девочки натыкается на пустоту. Отношения с другими людьми становятся принципиально невозможными. Из этого невыносимого состояния девочка бессознательно ищет выход и находит: чтобы удержаться в пустоте, она начинает воровать – окружать себя материальными предметами, закрепленными в эмпирическом мире. Присвоенные ею чужие предметы по сути оказываются совершенно ненужными: «Лаковые вещицы с золотыми ободками и надписями <…> были совершенно чужие. Их просто нельзя было представить лежащими где-нибудь дома – на столе, на этажерке <…> Девочка теперь понимала, что она и мать гораздо дальше от остальных людей, чем все они между собой, что между другими людьми, наверное, не бывает таких расстояний, через которые нельзя переправить даже пустяк, обиходную вещь, сувенир» [4, с.65]. Воруя чужие вещи, пытаясь заполнить внутреннюю пустоту, Катерина Ивановна еще сильнее чувствует отсутствие душевного тепла и столь необходимой близости с матерью.
Обделенная пониманием матери, Катерина Ивановна в придачу растет в кармической пустоте безотцовства. Выпадение этого звена неизбежно приводит к ущербности понятия «семья». С самого начала повествования на роду героинь лежит печать обреченности: «То была семья потомственных учителей, вернее учительниц, потому что мужья или отцы очень скоро исчезали куда-то, а женщины рожали исключительно девочек, и только по одной» [4, с.21-22]. Отсутствие в доме мужчины накладывает отпечаток на душу маленькой Катерины Ивановны, для которой «с матери все началось, на матери все замкнулось» [4, с.73]. Софья Андреевна и Катерина Ивановна одинаково обделены любовью мужской половины и сами не умеют любить и проявлять заботу о другом. Тема отца «была у них такой же запретной и неприличной, как и другие темы касательно брака и мужчин…» [4, с.115]. Неполная семья превращается в жалкий мир без разнообразия.
Переход в качественно новое состояние наполненности становится невозможным именно по причине отчуждения друг от друга. Мать с ее жизненным опытом чувствует, что «она, со своею внутренней темнотою, представляет собой небольшой независимый ад» [4, с.327]. Этот ад навязывается дочери в качестве образа жизни: Софья Андреевна – ментор не только по профессии, но и по жизни. Уже не различая, где урок литературы, а где реальность, она педантично учит Катерину Ивановну жить правильно, не имея на то серьезных оснований. Жесткий дидактизм матери приводит к тому, что Катерина Ивановна теряет чувство своего , становится совершенно неподвластной собственной воле. Пустота целиком поглощает ее душу. При полном отсутствии способов прямой коммуникации повествователь изредка пишет, что Софья Андреевна « думает» , в то время как про ее дочь не говорится и этого.
Содержание «думанья» Софьи Андреевны имеет своеобразную векторную направленность на «великолепную коллекцию своих обид – богатство, предназначенное для обмена на счастье» [4, с.438]. В психологическом отношении чувство пустоты Софьи Андреевны проявляется очень болезненным непрекращающимся дурным настроением, ненормальным интересом к внешнему миру, когда окружающие люди вызывают исключительно чувство неприязни, агрессии, раздражения. Внешний мир матери ограничен ее коллегами и бывшими и настоящими учениками: «Большинство из них она попросту ненавидела» [4, с.80]. Уничтоженное чувство собственной значимости выражается в обвинениях, в неприкрытой злости. Каждый, с кем хотя бы раз доводилось встречаться Софье Андреевне, оставался, сам того не подозревая, в «моральном долгу» перед ней: «…и у Софьи Андреевны бы- ло законное чувство, что она обладает непочатым сокровищем, составленным из чужой неблагодарности, пороков, наносимых ей людьми незаслуженных обид» [4, с.82].
В жизни Софьи Андреевны нет ни одного близкого человека. Известно, что способность любить есть в первую очередь способность любви к самому себе, ибо сказано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
По мысли Э. Фромма, «недостаток заинтересованности в себе самом и заботы о себе… опустошает и фрустирует личность» [6, с.102103]. Неприкрытое отвращение к своему телу, желание жить «по правилам» и только так, «как надо», подчеркивает неспособность героини испытывать позитивные чувства. Эта нелюбовь к самой себе перешла к ней по наследству.
Мать Софьи Андреевны, учительница рисования, старалась растолковать дочери, как следует разукрашивать картинки, но уроки не давали результата, потому что «закрасить значило полюбить» [4, с.28]. В зоне умолчания остались сложности взаимоотношений с матерью, мы видим только результат: чувства Софьи Андреевны уже тогда «не умели приложиться к чему-то конкретному» [4, с.28]. Увлекшись лишь вышиванием, она создает чудовищную галерею картинок, на одной из которых стрекоза совпадает по размерам с вышитой собакой. Нарушение пропорций имело целью заполнить пустое пространство картины, но она оказалась спроецированной на жизнь героини. Эти вышитые картинки, хранившиеся в семье как реликвии, впоследствии поражают Катерину Ивановну именно ощущением пустоты, «отсутствием ожидания, полным бесчувствием» [4, с.30].
Бесчувствие, скрывающее любовь-ненависть матери к собственной дочери, неизбежно уродует мир Катерины Ивановны. Э. Фромм отмечал, что мать, так болезненно привязанная к своему ребенку, на самом деле «испытывает к объекту своей озабоченности глубоко подавленную враждебность» и «вынуждена компенсировать отсутствие способности вообще любить его» [6, с.103].
Софья Андреевна, не сумевшая полюбить себя, пристально следит за каждым движением дочери, истолковывая любой ее поступок как тайный умысел преступления. Катерина Ивановна, физиологически превращаясь из девочки в женщину, нуждается в матери, но желание поделиться самым сокровенным оборачивается ужасной пыткой, потому что «медицинская процедура, которую могут с ней сотворить, воображалась страшнее самого несчастья» [4, с.274].
Отсутствие близости провоцирует в девочке желание умереть: «При мысли, что ее никто не пожалеет, девочка ощутила ко всем жестокое презрение. С неловкого размаху она поддала сандалией какую-то штуку, белевшую на меже: пустая картонка перевернулась в воздухе, и от этой перевернувшейся пустоты, легкости коробки мысль о смерти наполнила девочку невесомым ужасом» (курсив авторский. – М.Г .) [4, с.274].
Таким образом, эквивалентом метафизической пустоты в этой модели мира становится смерть. Трагедия в том, что, похоронив мать, Катерина Ивановна не избавляется от душевного опустошения и тяжелых, будто бессознательных мыслей о смерти. Молчание, длившееся годами, усиливается тишиной, и пустота целиком вступает в свои права, заставляя Катерину Ивановну сомневаться в собственном существовании: «Двое суток не видевшая своего отражения в занавешенном зеркале, она ступала и двигала руками словно наугад, словно потеряла свое подтверждение в зазеркальной темноте, и ежилась от чувства собственного отсутствия» [4, с.6].
Пугающее Катерину Ивановну зеркало и невозможность поговорить с матерью превращаются в тягостное « отсутствующее молчание» [4, с.9]. Это уравнение, заданное смертью, лишает всякого смысла ее жизнь, настроенную на сопротивлении двойнику. И хотя Софья Андреевна возвращается в ее быт собственным от-сутствием ,это не решает проблемы. Мучимая тягостным одиночеством, Катерина Ивановна видит мать призраком: «После того как она, вернувшись с похорон, обнаружила мать на диване, где та возилась, перебирая тонкими руками и ногами, будто увязнувшее насекомое, в душе Катерины Ивановны образовалась пустота» [4, с.464].
Исковерканные чувства, недолюбленность и неумение любить самой в итоге превращают пустоту в экзистенцию, в непреложную данность бытия: пустота вовсе не исчезает после смерти, а, напротив, растекается в мире, угрожая человечеству в целом. Катерина Ивановна, похоронив мать, остается в абсолютной пустоте, поскольку на ней родовая программа дала сбой: все поколения женщин в их семье рожали по одной девочке, а она осталась совершенно одна.
Задачам невозможности заполнить Пустоту во многом служит композиция романа, зеркально отражающая событие, предмет, судьбу в ситуации повтора. Роман начинается и заканчивается смертью. Раздавленная автобусом, Катерина Ивановна почти не меняет сущности своего не-присутствия-в-мире и чувствует только, что «теперь она окончательно свободна» [4, с.501].
Казалось бы, смертью Катерины Ивановны должна оборваться роковая цепь семейных несчастий, однако пустота проливается в мир. Квартира несчастных женщин, пропитавшись пустотой при их жизни, сохраняет ее после смерти и становится неким храмом Пустоты: «По мере того как реальность исчезала под возникающей из ниоткуда непрозрачной пылью, тело пустоты обретало определенность, обрастало мягкими отложениями, затягивалось пленками и дышащими легкими из больших белесых паутин» [4, с.502].
Таким образом, характеристики пустоты в тексте Славниковой применимы к чувствам человека и законам текстообразования – структуре романа, его образному строю, сложной, многоплановой метафоре, наконец, метафизике времени и пространства. Два человека – сообщающиеся сосуды, но в равной мере это справедливо в отношении человека и мира. Порожденная людьми, пустота демонстрирует свою самостоятельную онтологию, разрушительную для мира в целом.