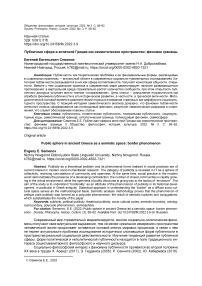Публичная сфера в античной Греции как семиотическое пространство: феномен границы
Автор: Семенов Евгений Евгеньевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
Публичность как теоретическая проблема и ее феноменальные формы, реализуемые в социальных практиках, - актуальный объект в современных социально-гуманитарных исследованиях. Категория публичности раскрывается в них как сфера коллективности, получает коннотации общности, открытости. Вместе с тем социальная практика в современном мире демонстрирует наличие развивающегося противоречия: в виртуальной среде стремительно растет количество сообществ, при этом открытость публичного дискурса уступает место тактике «огораживания». Цель статьи - осмысление пограничности как атрибута феномена публичности в его историческом развитии, в частности, в греческой античности. Методологической основой является диалектический подход в понимании «границы» как диффузного социокультурного пространства. С позиций методики семиотического анализа доказано, что феномен публичности античного полиса сформировался как поликодовый феномен, результат семиотических разрывов и сопряжений, что служит обоснованием новизны статьи.
Публичность, политическая публичность, театральная публичность, социокультурные коды, семиотическая граница, онтологическая граница, поликодовый феномен, семиосфера
Короткий адрес: https://sciup.org/149140189
IDR: 149140189 | УДК: 1(091):316
Текст научной статьи Публичная сфера в античной Греции как семиотическое пространство: феномен границы
Nizhny Novgorod Dobrolyubov State Linguistic University, Nizhny Novgorod, Russia, ,
Современный мир стремительно медиатизируется, многие социально-политические феномены получают свое виртуальное выражение, тем не менее «реальное измерение» пространства человеческой жизни продолжает оставаться основой многих мировых процессов, в связи с чем не теряет актуальности проблема исследования исторически сложившихся форм публичности в пространстве реальной социальной действительности. Изучение тенденций развития публичной сферы, форм политической и неполитической публичности находится в поле традиционного интереса социогуманитарного философского и научного дискурса.
Социально-философский интерес к феномену публичности проявился во второй половине ХХ века в трудах Х. Арендт (2017), Э. Гидденса (2005), Р. Сеннета (2002), Ю. Хабермаса (2016).
В научных работах последних лет исследование данного явления традиционно идет в рамках проблем, связанных с публичным участием в области принятия управленческих решений (Меньшикова, 2015); с влиянием власти на публичную сферу в условиях информатизации государственного управления (Косоруков, 2017); с проблемами методологии социально-сетевого управления пространством публичных коммуникаций (Российское пространство публичных коммуникаций: основные причины разрывов …, 2017). Стремительно возрастающая коммуникативная активность в интернет-среде, развитие «культуры участия» становятся факторами, стимулирующими изучение виртуального пространства как общественной сферы (Кривоносов, 2016; Товма-сян, 2017). Вместе с тем заметным поворотом в данной проблематике можно назвать интерес к проблемам, лежащим на пересечении реального и виртуального пространств публичности. В контексте развития современных городов актуализируется понятие «агора», которое воскрешает формы взаимодействия жителей с городскими пространствами (Hartvig, 2021); изучаются структуры виртуальных сред, конструирующих новые формы публичности (Artopoulos et al., 2019). В то же время возможность применения модели электронной публичной сферы рождает вопрос: как влияют структуры жизненного опыта субъекта, его социальные связи в поле реальной публичности на принципы его бытия в виртуальной реальности и, более того, усложняется ли при этом онтологический статус публичности (Кузнецова, 2018: 44)? Исследовательские изыскания показывают, что феномен виртуальной публичности не отрицает необходимости формирования публичного пространства городов, которое остается ценностно-ориентированным центром общественной жизни, что обосновывает актуальность обращения к историческим онтологическим формам публичности.
Пространственное конструирование символического мира в разные исторические эпохи обретало различные очертания. Рассматривая символическое пространство культуры как доминирующее в создании картины мира, Ю.М. Лотман обозначает его термином «семиосфера». Про-блематизируя характер конфликтующих структур внутреннего пространства культуры, он подчеркивает их собственную индивидуальность. В процессе описания этого свойства семиосферы, Лотман вводит понятие границы, которая разделяет внутреннее и внешнее пространство любого культурного мира, наделяя культурными кодами «свое» и «чужое», создавая семиотические пространства с их собственными правилами и запретами. Так формируется наполненный внутренним напряжением символический комплекс центра и периферии, все пространство которого характеризует пересеченность многочисленными границами. В этом комплексе граница не только разъединяет, но и соединяет, поскольку всегда это «граница с чем-то и, следовательно, она одновременно принадлежит обеим пограничным культурам, обеим взаимно прилегающим семио-сферам» (Лотман, 2001: 262). К этому можно добавить мысль М. Бахтина о том, что вся культурная область «расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент её» (Бахтин, 1975: 25). Отталкиваясь от понимания пересеченности семиосферы многочисленными границами, рассмотрим формирование публичного пространства эпохи античности с ее полисной политической организацией как своеобразную семиотическую сферу.
В философской мысли античности отразилось понимание тесной связи гражданина и полиса как основы подлинного сообщества. Положенный в основание организации греческого общества принцип синойкизма способствовал формированию полисного государства. Формы проявления коллективной взаимосвязи относились не только к сфере экзистенции, но и к пространству семиозиса, в том числе и в таких его признаках, как проявленность границ. Издание законов, разграничивавших частную и публичную жизнь, приписывали еще Ликургу, законодателю Древней Спарты.
Своеобразная культурная кодификация того типа поведения, которое мы называем публичным и которое отлично от поведения человека в его приватном мире, складывалась в античной философии в трудах Платона и Аристотеля и сформировала представление о публичных формах организации общественной жизни в античном полисе. Ранним атрибутом публичности можно назвать пространственную открытость языческих культов и ритуалов, в которых зарождались семиотические процессы, определившие развитие мифологической образности, а впоследствии и художественной системы античности. Другой аспект публичности можно связать с атрибутом всеобщности, проступающей в единстве этико-философского обоснования ценностных и императивных представлений, как гомеровский эпос, ставший неотъемлемой частью общего существования.
Публичность агоры в Афинах и Дельфах, апелла как форма народного собрания стали проявлением открытости и всеобщности как двух основополагающих принципов политической публичности в греческой античности. Среди факторов, сопутствовавших этому процессу, Ж.-П. Вернан выделяет формирование такого феномена, как agora, – социального пространства с центром на городской площади. Новый интеллектуальный горизонт открывал иной характер социальных свя- зей, прежние иерархические отношения господства и подчинения заменялись новыми, основанными на симметрии и взаимности между «подобными» или «равными» гражданами. По сути, речь идет о зарождении публичности как одном из признаков нового порядка. В то же время возникает и онтологическое ее измерение – агора и обобщающая метафора происходящих в Греции процессов – «геометризация» мысли. Греческий город становится подобен кругообразному и имеющему центр социальному космосу (Вернан, 1988: 15–16). В этих институциональных формах и духовных структурах зарождается онтологическая модель полисной публичности.
Вместе с тем публичная сфера формировалась не только политической деятельностью, но другими видами коммуникаций, в частности – театральной. Предлагаемая попытка семиотического сравнения двух сфер – политической и театральной – поможет выявить аспекты в понимании сопряженности и отграниченности различных семиосфер, символических пространств, которые образуют извечное поле знаковой намагниченности.
Исходным основанием для сравнения двух социокультурных феноменов являются уже названные атрибуты ранней публичности – открытость и всеобщность, которые могут быть рассмотрены как коды, конституирующие обе сферы социальной жизни. Здесь приватный человек показывается миру в его общественной ипостаси, его внутренние силы находят адекватную для публичной явленности форму (Арендт, 2017: 66), а принцип всеобщности формирует ценностные и императивные представления, сложившиеся в античной политике и культуре, в частности, в философских размышлениях Сократа и драматургии Эсхила, Софокла и Еврипида.
Поскольку любой код – это не только система правил, но одновременно и система запретов, то, делая акцент на противопоставленности символов, возможно установить семантический коридор, разделяющий разрешения и табу. Что выступает объектом символического разрушения, что подлежит кодовому размыванию – правила или запреты, определяет конкретная историческая ситуация. Но и в том, и в другом случае в символическом пространстве пограничных сфер возникает семиотическое напряжение. Может ли на границах такой борьбы возникнуть новый поликодовый феномен, усвоивший принципы символических механизмов той и другой сферы?
Пример кодовой противопоставленности можно выявить в семантическом пространстве текста «Законов» Платона. Философ обращается к эстетическим канонам мусического искусства, которое различалось по видам и формам: гимны, френы, пэаны и дифирамбы строились по разным эстетическим принципам. Платон подчеркивает границы, установленные между разными видами песнопений, нарушать которые не позволялось поэтам. Вместе с тем правилами античной публичности в художественных ее границах были установлены границы перцепции и оценки песнопений, при которых критерии оценки определялись только посвященными, теми, кто хорошо знал законы искусства. Выражение одобрения или неодобрения зрителями Платон категорически не приемлет как нарушение установленной границы, как результат чересчур далеко зашедшей свободы, когда «вместо господства лучших в театрах воцарилась какая-то непристойная власть зрителей»1. Слово «свобода» коннотативно нагружено неприятием обозначаемого явления у своего протагониста – политической публичности. Платон видит прямую обусловленность политической вседозволенности художественной свободой. Можно предположить, что эта причинно-следственная зависимость обусловлена именно фактором публичности представления тех поэтических форм, о которых говорит Платон, возникающими на грани представления и рецепции.
Переходя к политической сфере, мыслитель предлагает и другую логику границы: между самым деспотическим и самым свободным государственным строем. Сблизить эти антитетические формы может принцип умеренности, который, смягчив на границе резкую проявленность признаков – ограничение власти, с одной стороны, и свободы – с другой, приведет к благополучию в обществе. Снова: с одной стороны – две разграниченных сферы, с другой – их переплетение. Платон уподобляет искусство государственного правления ткацкому ремеслу2, выбрав метод дихотомического деления понятий, выстраивая на этом пути разграничения и соединения.
С зарождением философского логоса в V в. до н.э. стали формироваться первые идеи относительности и изменчивости, что обусловило новый дух политической публичности – дискус-сионность. Политика и политическое обретают новое семиотическое измерение, создаваемое на основе универсально-понятийного социокода. Так, с одной стороны, формируется разграниченность художественной и политической сфер, с другой – возникают диффузные процессы на стыке политического и художественного. При этом известная граница остается: в отличие от художественной сферы, которая стремится к переоценке кодов для достижения эстетических эффектов, политическая риторика закрепляет «взвешенный тип речи, управляемую неожиданность» (Эко, 1998: 129), акцентируя известную избыточность, на чем строится убеждение. Политические речи с их непреложными риторическими канонами были рассчитаны на эмоциональные эффекты, что сближало публичные агоны на агоре с театральными представлениями.
Другим преодолимым рубежом границы в драматургии было различие-смешение символической реальности и реальной действительности, также создававшее размытость границ между политическим и художественным. Ярким примером этого являются комедии древнегреческого комедиографа Аристофана. Так, во «Всадниках» фигура демагога Клеона, выведенного под именем Кожевника, не оставляла сомнения в сходстве с конкретной политической персоной. Для зрителей это был не обобщенный образ, а вполне реальное лицо. Художественная коммуникация в ее театральной форме воспринималась как политическая сатира. Поскольку зрители в театре и граждане на агоре были одними и теми же людьми, трудно было увидеть, где заканчивается художественное и начинается политическое: в сложном пересечении семиотических комплексов формировалось диффузное пространство публичности античного мира. В большей степени это объясняется общностью первоначального мифологического кода: в его духовной форме древним виделся источник нравственного канона, как метафорический стол, который, следуя Х. Арендт, «стоит между теми, кто сидит вокруг него, как всякое между , мир связывает и разделяет тех, кому он общ» (Арендт, 2017: 69).
Таким образом, рассмотрение характера публичности античного мира позволило выявить факторы возникновения семантических и этических напряжений в публичном пространстве, а сам феномен публичности оказался переплетенным нитями как онтологической, так и семиотической границ, разъединяющих и соединяющих одновременно, символизируя особый греческий дух. Можно глубже понять гегелевскую метафору об античности как месте юности европейского духа: создавать границы и переступать их – это дихотомическая бытийственность, которой свойственна дерзновенность юности. Выделенные модели полисной публичности в их онтологической и семиотической формах можно определить как поликодовый феномен, усвоивший принципы символических механизмов той и другой сферы.
Проблема границы как никогда актуальна и в современном мире, что вызвано интенсификацией жизнедеятельности всего общества. Сегодня публичность также расположена на границах различных культур, но можно говорить и о новых напряжениях. Атрибут открытости в мире цифровых технологий не так однозначен и подвергается эрозии, в то время как цифровой раскол ставит под сомнение и всеобщность публичной сферы, имея в виду ее сложные онтологические формы. Этой сложностью будет обусловлено и увеличение диффузных сегментов в пространстве публичности, и новые семиотические формы сопряжения и отталкивания. Представляется, что обращение к историческим аспектам в становлении феномена публичности, в частности, к сопряжению и взаимопроникновению онтологической и семиотической границ публичности в греческой античности, может раскрыть новые аспекты для анализа изменяющейся публичной сферы современного мира.
Список литературы Публичная сфера в античной Греции как семиотическое пространство: феномен границы
- Арендт Х. Vita Activa, или О деятельной жизни. М., 2017. 416 с.
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 504 с.
- Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. 224 с.
- Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М., 2005. 528 с.
- Косоруков А.А. Трансформация публичной сферы в теории и практике государственного управления // Политика и общество. 2017. № 8. С. 36-47.
- Кривоносов А.Д. Публичная среда и публичные коммуникации в эпоху интернета // Верхневолжский филологический вестник. 2016. № 1. С. 68-74.
- Кузнецова Е.И. Социальный конструктивизм как философский принцип исследования техногенных символических реальностей // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2018. № 1. С. 42-45.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001. 704 с.
- Меньшикова Г.А. Культура публичности как маркер демократичности современного общества и государства // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2015. Т. 208. С. 246-257.
- Российское пространство публичных коммуникаций: основные причины разрывов / В.В. Зотов [и др.] // Коммунико-логия. 2017. Т. 5, № 6. С. 61-76. https://doi.org/10.21453/2311-3065-2017-5-6-61-76
- Сеннет Р. Падение публичного человека. М., 2002. 424 с.
- Товмасян Н.Т. Публичная сфера: контуры теоретического образа // Идеи и идеалы. 2017. Т. 2, № 3 (33). С. 53-64. https://doi. org/10.17212/2075-0862-2017-3.2-53-64
- Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: исследование относительно категории буржуазного общества. М., 2016. 342 с.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998. 432 с.
- Artopoulos G., Arvanitidis P., Suomalainen S. Using ICT in the Management of Public Open Space as a Commons: New Approaches and Perspectives // CyberParks - The Interface Between People, Places and Technology. Cham, 2019. P.167-180. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13417-4_14
- Hartvig L. Agora covid idején: Agora Budapest - Agora Tower és Agora HUB irodaházak // Metszet. 2021. Vol. 12. Р. 12-21. https://doi.org/10.33268/Met.2021.1.1.