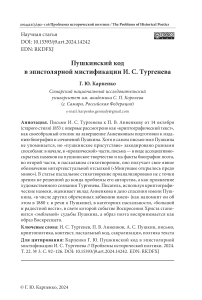Пушкинский код в эпистолярной мистификации И. С. Тургенева
Автор: Карпенко Г.Ю.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
Письмо И. С. Тургенева к П. В. Анненкову от 14 октября (старого стиля) 1853 г. впервые рассмотрено как «криптографический текст», как своеобразный отклик на завершение Анненковым подготовки к изданию биографии и сочинений Пушкина. Хотя в самом письме имя Пушкина не упоминается, но «пушкинское присутствие» закодировано разными способами: в начале, в «прозаической» части письма - в виде ассоциативно-скрытых намеков на пушкинское творчество и на факты биографии поэта, во второй части, в пасхальном стихотворении, оно получает свое явное обозначение интертекстуальной отсылкой («Минувшее открылось предо мною»). В статье пасхальное стихотворение проанализировано не с точки зрения не решенной до конца проблемы его авторства, а как проявление художественного сознания Тургенева. Писатель, используя криптографические намеки, оценивает вклад Анненкова в дело спасения имени Пушкина, «в числе других обреченных забвению имен» (как напомнит он об этом в 1880 г. в речи о Пушкине), в категориях пасхальности, «большой и радостной вести», в свете которой событие Воскресения Христа становится «эмблемой» судьбы Пушкина, а образ поэта воспринимается как образ Воскресшего.
И. с. тургенев, п. в. анненков, а. с. пушкин, письмо, криптопоэтика, контекст, пасхальный код, сакрализация, поэтика текста
Короткий адрес: https://sciup.org/147244411
IDR: 147244411 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.14242
Текст научной статьи Пушкинский код в эпистолярной мистификации И. С. Тургенева
П исьмо И. С. Тургенева к П. В. Анненкову от 14 октября (cт. с.) 1853 г. в жанровом отношении заключает в себе минимальное количество признаков, на основании которых его можно отнести к эпистолярной форме, а по содержанию оно «литературно».
В. Н. Топоров появление в русской эпистолярной традиции такой формы письма с «тенденцией к "литературности"» [Топоров: 16] относит ко второй половине XVIII в.: «…в XVII в. в определенной среде и при определенных обстоятельствах имеют хождения письма, которые становятся не только исключительно личным, частным, сугубо практическим делом, но приобретают характер общественного явления (более того, иногда у автора письма с самого начала обнаруживается присутствие установки на "общественный" резонанс, т. е. надежда на то, что письмо станет известно не только одному адресату, но и другим), во-первых, и, во-вторых, такие письма становятся фактом литературы с рядом вытекающих из этого последствий» [Топоров: 15–16].
К такому эпистолярному феномену относится и письмо Тургенева к П. В. Анненкову от 14 октября 1853 г. О нем можно сказать словами Ю. Н. Тынянова: «И из бытового документа письмо поднимается в самый центр литературы» [Тынянов: 131].
С точки зрения жанровых эпистолярных признаков как письмо оно распознается только по обращению и призыванию:
«Милый П<авел> В<асильевич>. Пишу к Вам, потому что именно к Вам хочется писать. <…> Непременно напишите мне Ваше мнение об этих стихах. <…> Что Вы об этом скажете?» [Тургенев. Письма; т. 2: 260, 262, 264].
Но и этого малого, обращения и просьбы, достаточно, чтобы придать содержанию письма сокровенное звучание. С одной стороны, на поверхности приводимых Тургеневым историй нет ничего личного, что имело бы отношение именно к Анненкову: такие «истории» о «маленьком человеке» и Воскресении Христа можно было бы рассказать кому угодно. С другой стороны, «…именно к Вам хочется писать» и «Непременно напишите мне Ваше мнение», то есть в письме есть то, что касается только тургеневского друга. Письмо по культурно-историческому содержанию, по воспроизводимым событиям не имеет приватных ограничений, но по заложенной в него интенции, по «направленности сердца» оно сугубо частное, тургенево-анненковское. Более того, оно является «криптографическим текстом» [Дьён-дьёши, Кибальник: 5], который как «тайнопись» [Кибальник: 3] должен быть распознан адресатом и в дальнейшем — читателями.
Перед тем как переписать и преподнести пасхальное стихотворение — поделиться с Анненковым источником своих радостных эмоций и удивления, — Тургенев делает краткое, но по жизненным вехам полное, даже чрезмерно полное характерологическое описание дворового человека Николая Федосеева (Градова):
«Живет у меня в доме старый (54-летний) маляр, бывший живописец, по имени Николай Федосеев Градов. Он был дворовым человеком моей матери и по старости лет не пожелал идти на волю.
Когда-то он учился рисованию и декоративной живописи у Скотти, потом жил на оброке, наконец попал обратно к маменьке, писал образа, срисовывал цветы, клеил коробки, подбирал шерсти по узорам, красил комнаты, крыши и даже заборы. Художническая искра в нем всегда была, и фигура у него не дюжинная, огромный нос, голубые глаза, выражение какое-то полупьяное, полувосторженное — впрочем, особенного в нем ничего не замечалось, считался он всегда в "последних", ходил замарашкой, любил выпить и к женскому полу чувствовал поползновение сильное. <…> Николай Федосеев вовсе не принадлежит к числу дворовых людей полуобразованных и с литературными притязаниями, повторяю — он совершенно простое существо, едва ли он когда-нибудь прочел какую-нибудь книгу <…> а он объявляет с своей стороны теперь, что он бросает кисть и берется за перо и что он мне напишет стихи под названьем "Система Мира" <…>. Вот тут пойдите с Вашей психологией, да с знанием человеческого сердца! Все это пустяки — каждый человек — неразрешимая загадка — и Spiritus flat ubi vult» [Тургенев. Письма; т. 2: 260–262].
Нетрудно заметить, что Тургенев использует при описании маляра-поэта Федосеева (Градова) традиционные — композиционный и повествовательный — «приемы», апробированные в произведениях «натуральной школы» и ставшие распространенными «приемами» оформления «готовых биографий», так называемых «предысторий» [Маркович, 1982: 66–67, 110], какие уже встречались в «Записках охотника» (например, «Чертопханов и Недопюскин») и в дальнейшем будет выполнять свою привычную функцию «биографического предуведомления» в тургеневских романах.
Но «прозаическая» часть письма связана не только с традицией «натуральной школы» (эта связь обнаруживается по линии «памяти жанра»), но и целенаправленно — с пушкинской традицией, которая выводит тургеневское послание на другой уровень восприятия: в пространство узнаваемых «посвященными» намеков и интенций, в сакральное место «пушкинского присутствия», в «иконологический предел», в точку «порождения» и «воскресения» Пушкина. Имя Пушкина не произносится, но он посреди друзей. Тургенев в дружеском послании реализует два библейских увещевания, сакрализует священное, пробуждая аффект «пушкинского присутствия» — «восторг души»: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно…» (Исх. 20:7); «…ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20).
Два «пушкинских конструктивных1 следа» дают о себе знать в «прозаической» части тургеневского письма: это повествовательная мистификация и особенности описания героя.
Как «издатель А. П.» «Повестей Белкина», который «брал на себя почетную обязанность представить любителям российской словесности нового писателя, выступал его биографом»2 [Макогоненко: 132], так и Тургенев передает Анненкову «краткое жизнеописание» «новооткрывшегося поэта», или «настоящаго (будто бы!) Автора»3, как точно выразился недоброжелатель ный рецензент «Северной пчелы»:
«Къ чему же мистификація, тайна, предисловіе! <…> А. С. Пуш-кинъ издалъ чужія Повѣсти <…> къ которымъ А. С. Пушкинъ руку приложилъ»4.
«Краткое жизнеописание» Федосеева структурно, по определенным заданным параметрам восходит к описанию жизни Ивана Петровича Белкина, присланному Издателю в письме-«желаемом ответе» «бывшим другом» покойного автора [Пушкин; т. 6: 54]:
«Вот, милостивый государь мой, всё, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего» [Пушкин; т. 6: 57].
Таких же параметров описания придерживается и Тургенев, выводя в свет своего сочинителя.
Г. П. Макогоненко справедливо отметил неромантический способ5 представления Издателем (в письме соседа Белкина) образа биографического автора. Он выводит «его как всякого человека, в обусловленности обстоятельствами жизни, истории, среды»: «Белкин-писатель был низвергнут в быт» [Макого-ненко: 132].
«Низвергнут в быт» и Федосеев. В «прозаической» части письма Тургенев в «свернутом виде» воспроизводит романно-житийную («новеллистическую») историю героя, обозначая этапы ее сюжетного воплощения: с жизненным взлетом — герой в роли живописца («учился рисованию и декоративной живописи у Скотти», «писал образа»), падением — опустился до маляра («красил заборы», дошел то того, что считался «последним») и неожиданным обретением дара стихотворца (бросил кисть и взялся за перо).
Но Тургеневу важно не столько завершить рассказ об этапах жизни героя неожиданной «новеллистической» концовкой (опустившийся маляр стал «пасхальным» поэтом), сколько актуализировать в связи с «замарашкой» мотив чуда и преображения (житийный мотив) — повествовательно соотнести сюжет, организованный логикой последовательности и детерминизма, с метасюжетом, где господствуют всеобщие духовные — теоантропные — ценности, в свете которых умаляется разграничивающая людей социальность.
Вначале Николай Федосеев, подобно Белкину и герою «натуральной школы», подается писателем как человек, находящийся во власти социально-бытовых обстоятельств (дворовый человек, живописец, маляр): эти обстоятельства, воплощенные в воле хозяйки усадьбы Варвары Петровны, определяют его подневольное положение как крепостного. Но к социальной характеристике Федосеева Тургенев добавляет «упоминание» о его человеческих «слабостях», непреодолимых желаниях, пагубных привычках и делает это с ориентацией на пушкинский литературный «стандарт» — при описании любого русского человека необхо-ди-мо сказать о его отношении к выпивке и к женщинам, причем сказать об этих двух слабостях в их тесной связке:
«Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его нáвеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может); к женскому же полу имел он великую склонность …» (здесь и далее выделено мной. — Г. К .) [Пушкин; т. 6: 56].
Если трезвенность Ивана Петровича для окружающих «неслыханное чудо», то «неслыханное чудо», сотворенное Федосеевым, обнаруживается в другом — в написании им пасхального стихотворения. А в «русских» слабостях даже дворовый человек Федосеев — «типичный» русский человек: «любил выпить и к женскому полу чувствовал поползновение сильное». Данные слабости не совсем типичны для усадебных порядков Варвары Петровны, в доме которой реализовать «сверхмерные» уклонения дворового человека было бы затруднительно, практически невозможно. «Но ведь каждый дрожит перед тобой», — передает В. Н. Житова слова писателя, сказанные матери6. Однако они, эти уклонения, «типичные» для русского человека, но «сверхмерные» для крепостного, больше рассчитаны на узнавание в тургеневском письме «пушкинских следов» Анненковым, занимавшимся подготовкой материалов для биографии поэта и старавшимся представить подобные уклонения «пылкой, увлекающейся природы» Пушкина как не пушкинские: «Всѣ они суть дѣтища броженія и замашекъ его времени»7.
Но подлинная «сверхмерность» крепостного Федосеева проявилась в поэтической сфере. В нем вдруг (с точки зрения окружающих его людей, среди которых и автор письма) открывается чудесный поэтический дар, порожденный особым религиозным чувством и воплощенный в стихотворении «Восторг души, или Чувства души в высокоторжественный день праздника». «Последний человек» преображается в «божьего человека», который способен написать пасхальные стихи, выразить эмоционально-яркое переживание события Воскресения Христа. Причем невольно, по необходимости — маляр-стихотворец, как он сам объясняет, берется выполнить функцию не только поэта, но и проповедника. Его мотивирует на написание пасхальных стихов нерадивый «поп»:
«Я <…> всё упрекал нашего попа, что вот он седьмой год у нас живет, а ни одной проповеди не написал — а он мне сказал: ты художник — напиши-ка ты. Вот я и написал» [Тургенев. Письма; т. 2: 261].
В этом простом и наивном признании Федосеева запечатлено таинство национального самосознания: для маляра-стихотворца написать проповедь (так он ее понимает) — это значит благовествовать о Воскресении Христа, передать «восторг души» от переживания самого сокровенного события христианской истории, которым определяется глубина и истинность веры. Удивительна и мотивирующая на написание пасхального стихотворения побуждающая формула: «Ты художник — напиши-ка ты». В глазах «попа» всякий художник должен уметь писать проповеди, «благовествовать». Если учитывать, сколько человек «определялись» в авторы пасхального стихотворения, то напрашивается естественный вывод: художник, даже такой как маляр, может и должен нести Благую весть. Все, причастные к пасхальному чуду, подобны крепостному маляру, они, по слову апостола Петра, «люди, взятые в удел», призванные к «священству»: «…вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел…» (1 Пет. 2:9).
Как видим, в своем итоговом сюжетном завершении образ бывшего живописца не поддается овнешняющему определению: герой — «неразрешимая загадка». Причем даже определения «замарашка», «совершенно простое существо» «не мешают» Тургеневу выйти в понимании человека к антропологическому обобщению: «…каждый человек — неразрешимая загадка». Более того, в заключительной части письма Тургенев оформляет образ Николая Федосеева в свете слов евангелиста Иоанна: «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8), причем выражает их по-латыни: “Spiritus flat ubi vult”, тем самым соотнося образ героя с универсальным евангельским словом, «осеняя» его Духом Святым.
Следовательно, уже в «прозаической» части письма действует энергия художественного претворения и обобщения (сопряжения частного со всеобщим, текста с контекстом), когда сведения о конкретном человеке преобразуются в повествование о человеке как «неразрешимой загадке». А в тексте как художественном пространстве каждая деталь может уже не только передавать содержание, ограничиваемое семантикой обозначающего слова, но и нести сверхсмыслы, порождаемые внутрисемантичес-кими связями, а также «подхватывающим» их актуальным и значимым контекстом.
«Прозаическая» часть письма была выполнена Тургеневым литературно узнаваемо, а именно: с использованием 1) пушкинского «приема подставного автора» [Ипполитов, Тюпа: 140] и 2) в художественно-публицистической логике «натуральной школы», в соответствии с которой герой подается в формах типизации не только социально ориентированной, но и духовногуманистической, по истоку своему религиозной (см.: [Карпенко]). (Вполне естественно, что такая двойная типизация в изображении человека была «отточена» в пушкинском художественном опыте.) Двойное кодирование изображаемого позволяет писателю вывести повествование за рамки эмпирического мира в сферу трансцендентных, метафизических смыслов (см.: [Маркович, 1993: 131], [Бельская]) и «эмблематичных» намеков (не проясненных до настоящего времени).
В письме Тургенева подобная энергия религиозно-художественного сопряжения «малого» и «великого» в полной мере проявила себя.
Хотя представляемый герой — реальный человек в усадьбе Тургенева, по воспоминанию В. Н. Житовой, «доморощенный живописец, Николай Федосеев, он же и маляр»8, но в зарисовке писателя он в бóльшей степени выступает как реальновымышленный персонаж, как художественный тип. В его образе узнаются как типичные бытовые черты человека из народа, так и особенности национального характера с его разного рода известными склонностями, которые хотел редуцировать Анненков при составлении биографии Пушкина (в частности, увлечение женщинами) ( Анненков, Друзья : 436–437).
Слишком литературен доморощенный поэт, чтобы соответствовать биографически конкретно-реальному человеку: образ соткан по литературному шаблону — с ожидаемыми характеристиками и неожиданной развязкой. С другой стороны, он поэтически условный персонаж, но созданный из реальных подробностей, черт и нравов русского быта, узнаваемых и подтверждаемых повсеместно самой живой жизнью, безусловно типичен.
Художественно воспринимать человека в его бытовых и жизненных проявлениях, то есть видеть в нем свет бóльшего, «загадочного» — в этом заключается отличительное свойство творческого дара Тургенева. Анненков в письме к другу от 12 октября 1852 г. высказывается о такой особенности повествовательного соотношения исторической реальности и «вымысла» (сочинительства) в «Записках охотника»:
«Действительно в них слишком наружу выступает сочинительство : оно напирает грудью на лица, на происшествия, на природу и даже на фразы. Это немного еще дикая сила, но все-таки сила, и в некоторых местах развернулась она так, что говоришь невольно: "Ай да молодец! Вон как вынес мужика — на одной руке, да и поверты вает еще"» [Анненков. Письма: 7].
Точно так, как в «Записках охотника», в «прозаической» части письма Тургенев занимается «сочинительством» и также «выносит мужика на одной руке, да и повертывает еще».
Братьев Эдмона и Жюля де Гонкур поразила природная способность Тургенева быть художником в мелочах: «…Турге-нев <…> изображает нам, словно живописец…»9. Когда писатель делится с ними своими впечатлениями от месяца заключения, проведенного в «камере» архива полицейского участка, то, не изменяя своему дару, «штрихами художника и романиста он рисует начальника полиции»10. По воспоминаниям П. Д. Боборыкина, Тургенев осознавал такую свою способность создавать образы из подробностей самой жизни:
«Мне нужно не только лицо, его прошедшее, вся его обстановка, но и малейшие житейские подробности. Так я всегда писал, и все, что у меня есть порядочного, дано жизнью, а вовсе не создано мною. Настоящего воображения у меня никогда не было»11.
Следовательно, «сочинительство» Тургенева держится не на воображении, а на умении подмечать в самой действительности характерные типы, малейшие житейские подробности и выявлять в них едва приметные метафизические смыслы, им, этим типам и подробностям, присущие.
Тургенев наградил своего героя чертами разных людей, в том числе передал ему и что-то от внешности самого себя. Сравним: «доморощенный живописец» — «фигура у него не дюжинная, огромный нос, голубые глаза»; Тургенев, в описании Эдмона и Жюля де Гонкур, — «это очаровательный колосс, нежный беловолосый великан», «кроткий великан», у него «глаза как небо»12.
Более того, обратим еще раз на это внимание: на уровне выстраивающегося «символического подтекста», «второго сю жета», мастеро м которого общепризнанно был Тургенев (см.:
[Маркович, 1982: 125, 127, 152, 180], [Пырков: 345–346]), в тексте письма закодирован образ Пушкина, обозначен мотив «пушкинского присутствия» — в начале письма в виде семиотики «странных сближений» (маляр — Пушкин), ассоциативноскрытых повествовательно-риторических намеков на пушкинское творчество, а во второй части, в пасхальном стихотворении, оно получает свое явное обозначение интертекстуальной отсылкой («Минувшее открылось предо мною» [Тургенев. Письма; т. 2: 263]).
Присутствие образа Пушкина в переписке двух друзей определяется известным обстоятельством: Анненков в это время собирал материалы по биографии Пушкина, готовил к изданию его сочинения [Фридлендер]: «…с конца 1851 г. Анненков погрузился в работы по Пушкину…» [Модзалевский: 290]. Можно даже говорить, что творческой и психоэмоциональной предпосылкой для появления письма от 14 октября 1853 г. стало «пушкинское событие»: ожидание выхода в свет биографии и сочинений Пушкина. Анненков так увлеченно, ответственно и скрупулезно собирал материалы и готовил тексты к публикации, что вынужден был обращаться за помощью к друзьям и знакомым (см.: [Фридлендер: 13]).
Так, в письме от 4 ноября 1852 г. Анненков обращается с просьбой к Тургеневу узнать что-то об английском писателе Ченстоне, сцены из трагикомедии которого якобы легли в основу сюжета «Скупого рыцаря»:
« Ченстон продолжает составлять мучение моей жизни. <…> мое полное убеждение, почерпнутое из соображений пушкинских рукописей, что Ченстон выдумка…» [Анненков. Письма: 9].
Тургенев, в свою очередь, обратился к английскому критику Ф. Чорли и помог Анненкову решить мучивший его вопрос — подтвердить его предположение, что Ченстон является мистификацией Пушкина. 2 февраля 1853 г. Тургенев пишет Анненкову:
«…сообщу Вам отрывок из письма Ф. Чорлея, одного из редакторов "Атенеума", о Шенстоне (Ченстона он не знает вовсе).
"Я могу сказать Вам с уверенностью, что в этом случае Ваш великий писатель (Пушкин) позабавился над Вашей публикой.
Ни такой драмы, ни даже отрывка такой драмы не существует у Шенстона <…>"» [Тургенев. Письма; т. 2: 198].
И завершая историю о неизвестном английском писателе, Тургенев тут же ее продолжает:
«Вопрос о Шенстоне кончен, но Ченстон меня мучит. Я опять напишу Чорлею, чтобы он опять порылся…» [Тургенев. Письма; т. 2: 199].
Из письма Тургенева от 15 июня 1853 г. видно, что Чорли успешно «порылся» и дал в несохранившемся письме необходимое уточнение (а может, письма-то и не было). О Ченстоне Тургенев сообщает:
«Я получил письмо от Чорлея — окончательное — о Ченстоне. Такого писателя решительно не было . Вопрос этот кончен» [Тургенев. Письма; т. 2: 241].
Весь этот эпистолярный сюжет о «загадочном Ченстоне», растянутый во времени на несколько месяцев, нашел свое оформление в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» в таком виде:
«Пушкин, как известно, приписывал и "Скупого", как прежде называлась драма, Ченстону и указал на трагедию “The caveteous Knigth” как на первую мысль своего произведения, но до сих пор все справки наши для отыскания этого источника остались безуспешны»; «Для окончательного объяснения дела, мы сносились посредством одного из наших знакомых (Тургенева. — Г. К .) с издателями “Athaenaeum” в Англии, прося у них сведений о загадочном Ченстоне. Ответ был таков вкратце: "Ваш великий поэт подшутил над своей публикой, сославшись на небывалого в Англии писателя"»13.
В переписке двух друзей по поводу Ченстона непроизвольно сложился повествовательный код той литературной истории о загадочном авторе, которая повторится через несколько месяцев в связи с выяснением автора пасхального стихотворения. Только, как показало время, история получится с интригой, неразрешенной и закрученной в еще бóльшей степени: Анненков опять-таки, как в случае с Ченстоном, усомнился в авторстве — на этот раз в авторстве пасхальных стихов дворового человека, а Тургенев на протяжении месяца из письма в письмо, занимаясь разысканиями («опять порылся»), будет вносить уточнения и называть все новых и новых сочинителей.
В письме к Анненкову Тургенев подражает Пушкину: как «великий писатель (Пушкин) позабавился над <…> публикой», выдумав Ченстона, так и Тургенев создает образ маляра-стихотворца, чтобы «позабавить» Анненкова. Анненков и «позабавился», сразу заподозрив «апокриф, подделку», но до конца загадку письма своего друга так и не раскрыл. Именно в контексте подготовки Анненковым к изданию биографии и сочинений Пушкина — в контексте всеобщего ожидания его «воскресения» — вполне органично появление в письме именно пасхального стихотворения, которое одновременно передает и событие Воскресения Христа, и становится «эмблемой»14 судьбы Пушкина, как и само письмо — сакральной манифестацией его образа.
Невольным организатором и «таинственным» героем пасхального сюжета и всего письма Тургенева к Анненкову стал Пушкин, сделавший когда-то уточнение к названию трагедии «Скупой рыцарь»: «Сцены из ченстоновой трагикомедии: The covetous Knight» [Пушкин; т. 5: 286]. Пушкин и в посмертии сотворил чудо: он подвѝг Тургенева воспользоваться таким же литературным приемом мистификации, как в «Скупом рыцаре» и особенно в «Повестях Белкина», «подарил» сюжет о маляре-стихотворце. Тургенев исполнил его волю в акте благодарения — в событии воскресения.
В преддверии выхода «Материалов для биографии А. С. Пушкина» Тургенев в письмах к Анненкову постоянно интересуется «Вашим Пушкиным»:
«С каким нетерпеньем ожидаю я известий о Вашем Пушкине!»;
«…да что издание Пушкина?»; «Что Вы мне ни слова не скажете об издании Пушкина? Боитесь сглазить?»; «Что Ваш Пушкин, подвигается?» [Тургенев. Письма; т. 2: 195, 208, 222, 241].
Наконец 26, 31 июля 1853 г. Тургенев заключает:
«Пушкин кончен — вот это большая и радостная весть » [Тургенев. Письма; т. 2: 246].
И уже 15 октября в прибавлении к «пасхальному» письму от 14 октября, когда возвращение-воскресение Пушкина состоялось, Тургенев высказывает пожелание:
«Желаю от души полного успеха Вашему Пушкину» [Тургенев.
Письма; т. 2: 265].
В письме Тургенева мотив «большой и радостной вести» заявлен в разных формах: в скрытой (неочевидной) — в «прозаической» части и со всей очевидностью — в переписанном пасхальном стихотворении. Оно к тому же оказалось одним из первых в ряду тех пожеланий и восхвалений, которые прозвучали в связи с появлением «Материалов для биографии А. С. Пушкина». «Пушкин» Анненкова был встречен с воодушевлением: «…общество приняло его с восторгом» [Модзалевский: 320].
Тургенев делится с Анненковым «пушкинской радостью», «пасхальностью», «Восторгом души, или Чувством души в высокоторжественный день праздника» — накануне дня Царскосельского лицея, когда Пушкину, будь он жив, было бы 54 года15, и подчеркивает при этом особый доверительный характер своего послания:
«Пишу к Вам, потому что именно к Вам хочется писать» [Тургенев.
Письма; т. 2: 260].
«Эмблематизация» (направленная символизация), семантический прорыв в иное ценностное пространство, которым освящается земное-предлежащее и к которому оно приобщается, — это особенность творческого видения Тургенева. В письме к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 15 сентября 1840 г. из Мариенбада Тургенев делится впечатлениями детства от чтения «Книги эмблем», рассказывает, как сформировалось его «эмблематичное» мышление, в высших своих проявлениях — «иконологичное»:
«Мне было лет 8 или 9. Я сговорился с одним из наших людей, молодым человеком, даже стихоплетом16, порыться в заветных шкафах17. <…> На мою долю досталась "Книга эмблем" <…>. Целый день я перелистывал мою книжищу и лег спать с целым миром смутных образов в голове. <…> я сам попадал в эмблемы, сам "знаменовал" <…> чуть не схватил горячки» [Тургенев. Письма; т. 1: 168].
И в этом же письме к друзьям Тургенев иллюстрирует примерами свое «эмблематичное» восприятие мира, рисуя бочку с падающей в нее каплей и вспоминая бегающих по двору «любезных уток», каждой из которых он дал имя:
«Вот, друзья мои — эмблема жизни вашего друга. Капля воды, падающая в бочку, и еще капля, и еще капля… (Без растолкования вы бы не поняли)…» [Тургенев. Письма; т. 1: 167].
А говоря об утках, Тургенев соотносит их с конкретными явлениями и лицами, буквально отождествляя их с человеком:
«…третья, худая, длинная, беспрестанно бегает, вытянув шею и ковыляя — за мухами — точно ты — Бакунин…» [Тургенев. Письма; т. 1: 167].
Данное письмо — вполне очевидный и демонстративный образец тургеневского мышления, когда писатель не только делится своим настроением и эмблематически выражает его, но и делает важное указание в скобках: «Без растолкования вы бы не поняли». «Эмблематичность» (которую нужно растолковывать) — это особенная способность и особый уровень творческого мышления писателя. «Эмблематичность» стала родовым знаком тургеневского письма («…бегал "Книги эмблем" пуще черта…» [Тургенев. Письма; т. 1: 168], от которого, как известно, убежать нельзя).
Если учитывать «эмблематичность» творческого видения Тургенева и исходить из нее, то «линейное» письмо от 14 октября 1853 г. таит в себе смысловой — символический — объем, который возникает внутри линейности, однозначности и очер-ковости и над ними. Смысловой объем пасхального стихотворения как свободная подвижная надстраивающаяся над линейностью динамическая система нуждается в «растолковании», то есть обладает при его «разгерметизации» потенциальной сюжетностью, концептуальностью и многозначностью.
Именно так обстоит дело с «пушкинским присутствием» в письме Тургенева к Анненкову: только другу «хочется писать» и от него хочется получить «желаемый ответ». В контексте «пушкинского настроения», в котором пребывают на протяжении нескольких месяцев друзья, избыточная подробность о точном возрасте «пасхального» стихотворца из Спасского («старый (54-летний) маляр») приобретает значение скрытого намека, указывающего (даже в обозначении лет) на незримое — подтекстовое — «пушкинское присутствие»18, сопряженное с состояниями умиления, восторга и внутреннего преображения: за маляром, как за Белкиным, кто-то стоит ( «Идущий за мною стал впереди меня» (Ин. 1:15), «Но стоит среди вас Некто ,
Которого вы не знаете» (Ин. 1:26) ) . Образ Пушкина в предельном сакральном переживании — в пространстве таинства — возникает и воспринимается как образ Спасителя, как образ Воскресшего.
Другими словами, в письме находит свое осуществление «пасхальный код», по-разному воплощенный, но равно соотносимый и со Словом, которое было «в начале», и со Словом, явленным в творчестве Пушкина:
«И Спаситель нашъ Божественный
Весь въ лучахъ надъ нимъ (гробом. — Г. К .) возсталъ: Славой Божiей торжественно
Взоръ безсмертiя сiялъ!‥»19;
«И Спаситель наш божественной
Весь в лучах над ним восстал — Славой божией торжественной
И бессмертьем Он сиял»20 [Тургенев. Письма; т. 2: 264].
Братья Э. и Ж. Гонкур приводят свидетельство Тургенева о преображающем действии на него пушкинского слова:
«Он говорит, что когда ему грустно, когда у него дурное настроение, двадцать стихов Пушкина спасают его от меланхолии, вливают в него бодрость, будоражат. Они приводят его в состояние восхищенного умиления, которого не может у него вызвать никакое великое и благородное деяние. Только литература способна порождать такое просветление духа, и оно сразу же дает себя знать физически приятным ощущением — ощущением тепла на ще-ках!»21.
Духовно-литературную традицию соотнесения Слова Пушкина и Того Слова, о котором евангелист Иоанн свидетельствует: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его…» (Ин. 1:14), — обозначил еще В. Г. Белинский. Определяя сущность поэзии, он писал:
«Если поэзия <…> улучшает душу человека, то лучшее доказательство этому может представить собою поэзия Пушкина»; «В Пушкине <…> прежде всего увидите художника <…>, любящего всё и потому терпимого ко всему» [Белинский; т. 7: 35, 318–319].
Пережить «слезы трепетного восторга» и запечатлеть момент «богоявленности» Пушкина — «царства бесконечного» [Белинский; т. 3: 100] Белинский смог в 1839 г., когда в рецензии на альманах «Сто русских писателей» он признавался, что ему благодатно открылась трагедия «Каменный гость», и поделился не просто религиозным опытом, а потрясением, опытом внутреннего преображения, тем «святым откровением», ради которого человек рождается в мир и, обретая его, с ним умирает в «совоскресение»:
«Мы увидели даль без границ, глубь без дна, — и с трепетом отступили назад… <…> Что так поразило нас? — Мы не знаем этого, но только предчувствуем это, — и от этого предчувствия дыхание занимается в груди нашей, и на глазах дрожат слезы трепетного восторга… Пушкин, Пушкин!‥ И тебя видели мы… Неужели тебя?‥ Великий, неужели безвременная смерть твоя непременно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто был ты?‥» [Белинский; т. 3: 100];
ср.:
«Никогда я так не читал: меня посетило откровение, и слезы почти мешали мне читать» [Белинский; т. 11: 483].
Белинский воспринимает и оценивает Пушкина в свете евангельского Слова. «…И мы видели славу Его » (Ин. 1:14), — свидетельствует апостол Иоанн об увиденном Боговоплоще-нии. « И тебя видели мы » — со «слезами трепетного восторга», находясь в состоянии высшего изумления, свидетельствует критик о воплощении на Руси художественного Слова, сродни евангельскому.
Белинский пребывает в русле той духовной традиции почитания Слова Пушкина как Слова, о котором евангелист Иоанн в Первом послании сообщает:
«…и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь <…> мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами <…>. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна» (1 Ин. 1:2–4).
В русле данной традиции пребывает и Тургенев22, когда делится с Анненковым «пасхальным» переживанием.
Характерной особенностью письма Тургенева является использование принципа двухмерности, соединения контрастных начал сниженного и высокого: «биографический автор» по своему образу жизни являет одно, а его пасхальные стихи — совершенно другое:
«…и никто не верил, чтобы Н<иколай> Ф<едосеев> написал их…» [Тургенев. Письма; т. 2: 261].
Но если для Тургенева повествовательный принцип контраста, реализованный в письме, — это, видимо, специально сконструированный и рассчитанный на эффект прием, то Анненкову в процессе работы над биографией и творческим наследием Пушкина пришлось решать методологическую проблему «жизни поэта, полной контрастами» (Анненков, Друзья: 440) и определять исходную исследовательскую установку, которая как раз свелась к осознанному разделению Пушкина на Пушкина биографического и Пушкина эстетического. С этой целью Анненков выстраивает концепцию «двухъ разныхъ Пушкиныхъ», «обоихъ видовъ Пушкина» (Анненков, Друзья: 440, 441), отделяет Пушкина-художника от биографического Пушкина: «Одинъ изъ нихъ <…> намъ вовсе чуждъ и носитъ извѣстную физіономію своего времени, общую его сверстникамъ…» (Анненков, Друзья: 440–441). А подлинным Пушкиным объявляется «настоящій, великій Пушкинъ» — «объяснитель духовныхъ силъ, присущихъ народу» (Анненков, Друзья: 441).
«Другого», биографического, Пушкина Анненков называет «двойником»: «…этотъ второй, побочный, такъ сказать, типъ нашего поэта» ( Анненков, Друзья : 441). «Увлеченія, порывы и уклоненія Пушкина» могут быть признаны, по мнению биографа, только «въ видѣ паразитовъ» ( Анненков, Друзья : 436).
В письме Тургенев, формально придерживаясь принципа контраста, проблему разных начал все же решает по-другому, не так как Анненков: не разъединяет биографию и творчество механически и психологически, а соединяет разнополярное в духовном, синтезирует различные явления в единстве высшего порядка. Писатель, выходя на уровень предельного ценностного обобщения, словно устраняет свое субъективное толкование, не разделяет биографическое и творческое, как Анненков, а соединяет в загадке непостижимого.
Анненков же готов сознаться, что он «дурак», но не готов признать, что маляр-стихотворец — «это гений — невразумительный, необъяснимый (в сравнении с его биографией <…>)» [Анненков. Письма: 34]. Примечательно, что Анненков, не видя гениальности в маляре-стихотворце, тем не менее оценивает его по методу «контраста», какой он использует при характеристике Пушкина-художника и Пушкина — обыденного, как все, человека: с привычками, «общими для его сверстников», с такими, как и у маляра-стихотворца.
У Тургенева другой масштаб понимания человека. Ему важно выделить в конкретном человеке не только его социальноисторическую типичность («известную физиономию своего времени, общую его сверстникам»), но и духовно-всеобщее начало: каждый человек (и Пушкин, и маляр-стихотворец) — «неразрешимая загадка». В письме Тургенева, безусловно, узнается фраза о человеке как «неразрешимой загадке», которую в романе «Отцы и дети» в измененном виде, соглашаясь с Одинцовой, произнесет Базаров:
«…может быть, точно, всякий человек — загадка» [Тургенев.
Сочинения; т. 7: 91].
И вот этот маляр-стихотворец, сообщает Тургенев, написал «удивительную вещь».
«Я нахожусь под влиянием необыкновенного события <…> Я остолбенел…» [Тургенев. Письма; т. 2: 260, 261], — делится своими эмоциональными состояниями писатель и в качестве доказательства приводит полностью стихотворение живописца «Восторг души, или Чувства души в высокоторжественный день праздника». Повторим, Анненков усомнился в авторстве «пьесы», и мистификация быстро раскрылась.
Но в данном случае нас интересует не факт реального авторства, а не менее реальный факт авторского сознания. Кто бы ни был автором, пасхальное стихотворение является ценностью, «принадлежностью» творческого сознания Тургенева: к стихотворению как к волнующему его документу писатель обращается и через 13 лет после публикации. Даже если допустить, что Тургенев вычитал стихотворение «Христос Вос-кресе!» из «Литературной газеты» (комплект которой за 1840 г. хранился у него в имении) и переписал его для своего друга Анненкова, то данное обстоятельство не отменяет, а, может быть, даже усиливает факт содержательной значимости пасхального стихотворения для творческого сознания писателя.
По содержанию стихотворения «Восторг души…» видно, что оно написано со знанием деталей «литургического воспоминания» [Постовалова], или, по слову самого поэта, есть плод «живых воспоминаний» [Тургенев. Письма; т. 2: 262], создавалось с опорой на евангельский текст, с явной ориентацией на Евангелие от Матфея. Только там говорится не только о наступлении тьмы в момент смерти Христа, но и о втянутости природы в «богословие трех дней» (распятие-смерть — сошествие в ад — воскресение), о ее соучастии «провозвестницей» в таинстве воскресения:
«Завес в храме раздрался… Потемнело солнце ясное — Потемнели небеса.
Вижу тьму, весь мир объявшую, Слышу страшный треск громов —
Грудь земли затрепетавшую, И восставших из гробов! —»
[Тургенев. Письма; т. 2: 263].
Своеобразным маркером, который позволяет сравнить новозаветные тексты и установить духовный первоисточник стихотворения, являются слова о «раздравшейся» завесе: «…завѣса во храмѣ раздралась» (Мк. 15:38, Мф. 27:51)23. Но только в Евангелии от Матфея повествуется о мощном отклике природы на смерть Христа: «И се, завѣса во храмѣ раздралась надвое сверху до низу; и земля потряслась; и камни разсѣлись; и гробы отверзлись; и многія тѣла усопшихъ святыхъ воскресли…» (Мф. 27:51–52).
К Евангелию от Матфея (в бòльшей степени, чем к Евангелию от Марка) восходят и слова стражников (в Евангелии от Марка восклицает один сотник):
«…воистину нами распятый
Был вечный сын Бога, обещанный нам!»
[Тургенев. Письма; т. 2: 263].
В Евангелии от Матфея, изданном в 1823 г. в Санкт-Петербурге на русском языке, удивление стражников передается так: «Сотникъ же, и съ нимъ стрегущіе Iисуса, увидѣвъ землетрясе-ніе, и все бывшее, устрашились весьма, и говорили: воистинну Божій Сынъ былъ Онъ» (Мф. 27:54).
Стихотворение замечательно и в других отношениях: как по пасхальному содержанию и узнаваемым евангельским деталям («тьма», «завеса», «страшный миг часа девятого» и др. [Тургенев. Письма; т. 2: 263]), так и по «литургической» структуре. Оно обладает «экклезиологичной энергией», начинается с «призывания» и приготовления «жертвы», на которую способны только «верные»:
«Спеши во храм, пусть в сладком умиленье Затеплится мольбой душа твоя.
Но за порог таинственного храма —
Без теплой веры в сердце не входи —
И не сжигай святого фимиама,
Когда нет жертвы в пламенной груди»
[Тургенев. Письма; т. 2: 262].
Во второй части стихотворения в образной форме воспроизводится богословие трех дней, и завершается оно радостью «мира искупленного»:
«Так совершилась тайна искупленья —
И гордый враг небес низвержен в прах —
И снова для преступного творенья
Доступна жизнь — и вечность в небесах»
[Тургенев. Письма; т. 2: 264].
По пасхальному содержанию стихотворение «Восторг души…» действительно как бы не имеет автора: оно в «литургическом воспоминании» порождается таинством воскресения. Пасхальным восторгом души охвачены все: само содержание, в центре которого «единое Благовестие Иисуса Христа», важнее конкретного авторства [Аверинцев: 87].
Литературная игра с автором, как оказывается, имеет своей целью не столько актуализацию смысловой значимости автора, сколько его умаление (как в святоотеческой традиции), — усиление ценности самого изображаемого события. Когда совсем не авторитетный, безымянный рецензент «Северной пчелы» писал о «Повестях Белкина», он, раздражаясь пушкинской мистификацией, говорил о важности не вопроса об авторстве, а содержания:
«Былъ ли на свѣтѣ Бѣлкинъ, нѣтъ ли, намъ все равно; а важны для насъ его Повѣсти…»24.
Такую же мысль высказывают и современные исследователи (историк и теоретик), отмечая значимость, на определенном уровне, концептуального восприятия текста, его содержания, а не авторства: от особенностей авторской активности «ровным счетом ничего не изменится: весь смысл произведения сосредоточен в рассказываемых событиях» [Ипполитов, Тю-па: 140].
Даже там, где авторство и индивидуальная позиция автора обозначаются, содержание стихотворения остается не совсем авторским в силу его посвящения пасхальному событию: автор служит событию. Так, в «Восторге души…» есть узнаваемая строка «Минувшее открылось предо мною» [Тургенев. Письма; т. 2: 263], отсылающая к словам пушкинского Пимена из трагедии «Борис Годунов»: «Минувшее проходит предо мною…» [Пушкин; т. 5: 199]. Тургенев, переписывая стихотворение через 13 лет, по внешней функции переписчика выступает одновременно в роли и Пимена, и «монаха трудолюбивого»:
«Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный <…>
Правдивые сказанья перепишет…» [Пушкин; т. 5: 199].
Тургенев буквально переписывает «правдивые сказанья». Но целевые творческие задачи у автора «Восторга души…» и у Пимена, летописца «правдивых сказаний», разные. Пимена «многих лет / Свидетелем Господь <…> поставил» [Пушкин; т. 5: 199], и он как бесстрастный очевидец проходящих событий хранит память о них. Но она его как память человеческая подводит:
«Минувшее проходит предо мною <…>
Немного лиц мне память сохранила, Немного слов доходят до меня,
А прочее погибло невозвратно…» [Пушкин; т. 5: 199].
В картине мира, которую создает Пимен (а она и формирует образ «усеченной» реальности не только для Пимена, но и для всех), «минувшее проходит», но благодаря памяти летописца что-то сохраняется (труды, слава, добро, грехи и темные деянья царей), «а прочее погибло невозвратно». В такой картине мира отношения человека и Бога носят доверительный характер. Господь благословляет людей на исполнение долга:
«Исполнен долг, завещанный от Бога…» [Пушкин; т. 5: 199].
Это земной мир: в нем творцами являются цари и летописец. Одни вершат добрые и темные дела, а другой, поставленный свидетелем человеческих и царских деяний, объективно фиксирует:
«…о чем он пишет? <…>
Спокойно зрит на правых и виновных, Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева» [Пушкин; т. 5: 200].
Пимен формирует у «потомков православных» особую историческую память, пронизанную христианским отношением к прошлому:
«Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу, Своих царей великих поминают За их труды, за славу, за добро — А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют» [Пушкин; т. 5: 199].
Автор «Восторга души…» хочет пробудить у «потомков православных» не христианско-историческую память, а «литургическое воспоминание». Он призывает их не к поминовению «своих царей великих», а к «живому воспоминанию» пасхального события. Для него минувшее не проходит, как оно проходит перед Пименом, не способным своей человеческой памятью удержать все бывшие события. Оно как сакральное событие открывается: «Минувшее открылось предо мною». Минувшее как непреходящее и сакральное есть дар откровения (ср. у Белинского: «меня посетило откровение» [Белинский; т. 11: 483]), и оно прежде всего открывается ему как событие тридневия Христа (смерть — сошествие в ад — воскресение), в самой смерти рождает чувство вечной жизни (ср. Белинский о Пушкине: «Великий, неужели безвременная смерть твоя непременно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто был ты?‥» [Белинский; т. 3: 100]).
Если жизнь Пимена передавать предметными символами, его окружающими (метафоризировать ее), то метафорами ее будут догорающая лампада и летопись как «последнее сказание»: «Но близок день, лампада догорает…»; «…и летопись окончена моя» [Пушкин; т. 5: 199]. Анонимный автор «Восторга души…», как он заявлен в стихотворении, соотнесен с образами «живых воспоминаний»: метафорой его жизни выступает «вечность в небесах».
К обретению душевной «вечности в небесах» он призывает и других. Чтобы быть свидетелями «венца» тридневия — таинства Воскресения, нужно «заглушить в груди земные страдания», остановить «руку врага с улыбкой» и (только тогда будет доступно) «взором души» узреть и постичь «тайну искупленья», суть которой:
«И снова для преступного творенья
Доступна жизнь — и вечность в небесах»
[Тургенев. Письма; т. 2: 263–264].
Таким образом, обращение автора пасхального стихотворения к мыслям и настроению летописца Пимена словно намечает творческий диалог, который можно было бы рассматривать как спор Тургенева с Пушкиным, но сам диалог носит «побуждающий» характер. Он только помогает усилить «чувства души в высокоторжественный день праздника» и пробудить двойное «литургическое воспоминание» — о Христе Спасителе и Пушкине: ведь и словом Пушкина (пушкинским контекстом) творится пасхальное стихотворение, и наполнено им.
Стихотворение, возвращенное Тургеневым через 13 лет после своего появления в «Литературной газете» в письмо и — по факту — в «жизнь вечную», характерологично и знаменательно именно не как опубликованное или готовящееся к выходу в свет авторское стихотворение, а как переписанное (причем не однажды и тоже без указания автора25): образ свидетеля, пишущего перед лампадой, сближает пушкинского Пимена и автора стихотворения, а биографически — поэта-маляра из «последних» с «солнцем нашей Поэзии» Пушкиным26. Оно, перенесенное волнением души из «тьмы забвения» в новую жизнь, говорит о чем-то очень важном: оно «благовествует», посылает весть о Воскресении, говорит о таинстве переживания этой вести. И кто бы ни был автором стихотворения, в свете Благой Вести, пролившейся поэтически, как указывает Тургенев, с «бесчисленными орфографическими ошибками» на «засаленный лист» в Спасском [Тургенев. Письма; т. 2: 261, 264], авторство умаляется. Как иконник, творящий мир святости, становится «соработником Бога» (Первообраза) и являет собой «третий вид образа» [Тарасов: 140, 141], так и служители при Господе — летописец и «пасхальный» поэт — поднимаются до уровня духовно-личностного воплощения: до таинства, свидетельствования и благодарения, — а вместе с ними и все, при-частные-причастившиеся, способные жить радостью Воскресения Христова.
Т. Я. Ден, Л. Я. Назарова и Т. Б. Трофимова, проанализировавшие отклики на пасхальное стихотворение, отмечают, что оно вызвало «восторг души» у П. В. Анненкова и у Н. А. Некрасова [Тургенев. Письма; т. 2: 538–539], сомневавшихся в авторстве маляра-поэта:
«Но пьеса сама по себе — чудо! У меня сейчас был Некрасов и повторяет — чудо!» [Анненков. Письма: 34].
Важным для оценки смысла эпистолярного произведения Тургенева как социокультурного события является письмо Анненкова к Тургеневу от 11 ноября 1853 г., посланное из Петербурга в Спасское:
«Здесь только я, Корш, да Некрасов разделили со мной удовольствие от этих стихов; остальные сказали, что больно просто и что так точно понимает дело всякая баба и всякий лавочник» [Анненков. Письма: 36].
Как показали результаты непроизвольного дружеского «социологического эксперимента», пасхальное содержание
«Восторга души…» оказалось одинаково близко и «забрызганному белилами» маляру-поэту, числившемуся в усадьбе «всегда в "последних"» [Тургенев. Письма; т. 2: 261], и лучшим, «первым», представителям отечественной культуры, и «всякой бабе, всякому лавочнику», и образованным людям. Пасхальное стихотворение взволновало Тургенева, Анненкова, Некрасова, Корша и «остальных». Эта оценка безымянными «остальными» наиболее показательна: «остальные» — это анонимные носители и выразители смыслов общественного сознания, каковых большинство. Как безымянные, они точнее «схватили» значимость стихотворения, которая ими видится не в авторстве, а в содержании. Таким способом — всеобщим признанием духовной ценности пасхального стихотворения — был достигнут «иконологический эффект». Сакральные смыслы пасхального стихотворения, как и при восприятии иконы, заслоняют важность вопроса об авторстве: «Авторство же иконы не имеет большого значения. Автором иконы можно назвать всякого человека, душа которого распознает в данном изображении икону как выражение родственного себе духовного начала. Авторство иконы не ограничено иконописцем, оно соборно, т. е. церковно» [Михаил (Насонов): 170].
Такое понимание соотношения ценностной значимости авторства иконописца и содержания иконы обозначил в середине XIX в. А. С. Хомяков:
«…икона есть выраженіе чувства общиннаго, а не личнаго <…>. Произведенія одного лица, они не служатъ его выраженіемъ; они выражаютъ всѣхъ людей, живущихъ духовнымъ началомъ: это художество въ высшемъ его значеніи»27.
В письме Тургенева к Анненкову от 14 октября 1853 г. «художество в высшем его значении», подобно «художеству» иконы, находит свое полное воплощение: обращенное к частному лицу, оно при жизни писателя породило небольшое, но символически значимое общественное событие, которое вызвало «восторг души» «всех людей, живущих одним духовным началом». Более того, оно запечатлело глубинный пласт национального самосознания, общее чувство нации, способной в единстве веры переживать самое сокровенное христианское событие — Воскресение Христово. Письмо Тургенева, рассматриваемое как художественное явление и социокультурное событие, показывает, что все причастные к нему действующие лица, реальные или вымышленные, в переживании «пасхального чуда» так или иначе живут «въ полномъ согласіи съ жизнен-нымъ и духовнымъ бытомъ Русскаго народа»28, охвачены тем восторженным национально-религиозным переживанием, которое можно выразить и в иконе, и в слове, описать и гению, и недоучке. Поэтому трудно согласиться с утверждением И. А. Беляевой о творческой непродуктивности отправленного Анненкову письма: «Сюжет, а вместе с ним и герой, оказались мертворожденными» [Беляева, 2018b: 173]. Наоборот, в силу того, что письмо Тургенева прозаической своей частью — в образе загадочного автора-героя — оказалось содержательно уникальным и самодостаточным, а пасхальностью — содержательно всеобщим, оно как художественно-целостное высказывание запечатлело помимо «прозы жизни» еще и сокровенное — «таинственное» — чувство, которое, по словам М. А. Петровского, «обогащает наше мироощущение» [Петровский: 97]. Оно — «наше мироощущение» (и сейчас «наше») — получило в письме свое выражение в «восторгах души», в переживании пасхального события, когда «минувшее открылось предо мною». Оно — таинство откровения, событие Воскресения — стало своеобразным прикровенным кодом «литургического воспоминания», не покидавшего Тургенева на протяжении всего его творчества, всей его жизни. Об этом — о своем внешне незаметном духовном самостоянии — писатель вспомнил в лирической миниатюре «Христос» в декабре 1878 г.:
«Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. <…> Темно и тускло было в церкви… Но народу стояло передо мною много. <…>
Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом.
Я не обернулся к нему — но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. <…> это именно Христос стоит со мной рядом. <…> я понял, что именно такое лицо — лицо, похожее на все человеческие лица, — оно и есть лицо Христа» [Тургенев. Сочинения; т. 10: 161–162].
Таким образом, со всей определенностью можно заключить, что Тургенев в письме от 14 октября 1853 г., используя криптографические намеки, оценивает вклад Анненкова в дело спасения имени Пушкина, «в числе других обреченных забвению имен» [Тургенев. Сочинения; т. 12: 348] (как об этом писатель напомнит в речи о Пушкине в 1880 г.), в категориях пас-хальности, «большой и радостной вести», в свете которой событие Воскресения Христа становится «эмблемой» судьбы Пушкина, а образ поэта воспринимается как образ Воскресшего.
Список литературы Пушкинский код в эпистолярной мистификации И. С. Тургенева
- Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 448 с.
- Анненков П. В. Письма к И. С. Тургеневу / подгот. текста, статьи, коммент. Н. Н. Мостовская, Н. Г. Жекулин. СПб.: Наука, 2005. Кн. 1: 1852–1874. 532 с. (Сер.: Литер. памятники.)
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959.
- Бельская А. А. «Тургеневский человек»: к постановке проблемы // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3 (66). С. 97–105 [Электронный ресурс]. URL: https://oreluniver.ru/public/file/archive/201503.pdf (20.01.2024). EDN: UZDAGP
- Беляева И. А. «Помни мои последние три слова»: к вопросу о структуре финалов в романах Тургенева // Филологический класс. 2018. № 3 (53). С. 25–32 [Электронный ресурс]. URL: https://filclass.ru/archive/2018/3-53/pomni-moi-poslednie-tri-slova-k-voprosu-o-strukture-finalov-v-romanakh-turgeneva (20.01.2024). DOI: 10.26710/fk18-03-04. EDN: YMRALJ (a)
- Беляева И. А. Об одном нереализованном замысле И. С. Тургенева: на пути от «старой манеры» к «новой» // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2018. № 6. С. 163–176 [Электронный ресурс]. URL: https://vestnik.philol.msu.ru/issues/VMU_9_Philol__2018_6.pdf (20.01.2024). (b)
- Дьёндьёши М., Кибальник С. А. Криптопоэтика и формы ее проявления // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2022. T. 81. № 6. C. 5–15 [Электронный ресурс]. URL: https://new.ras.ru/upload/iblock/f5b/mma1xrtrpbo1ydv2oogsa8947c7wdf1m.pdf?ysclid=m0nvtc91fh669694736 (20.01.2024). DOI: 10.31857/S160578800023670-3. EDN: CQATTM
- Ипполитов С. С., Тюпа В. И. Мистификация Пушкина: кем был покойный «славный малый» Иван Петрович Белкин? // Новый исторический вестник. 2015. № 4 (46). С. 129–148 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25470825 (20.01.2024). EDN: VLJVJD
- Карпенко Г. Ю. О типе, типическом в «физиологическом очерке» // Памяти профессора В. П. Скобелева: проблемы поэтики и истории русской литературы XIX–XX веков: сб. науч. ст. Самара: Самарский ун-т, 2005. С. 151–160. EDN: DPFUHD
- Кибальник С. А. Тайнопись русских писателей: от Пушкина до Набокова / Ин-т рус. лит-ры (Пушкинский Дом) РАН. СПб.: Петрополис, 2022. 433 с.
- Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830–1833). Л.: Худож. лит., 1974. 376 с.
- Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30–50-е годы). Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1982. 208 с.
- Маркович В. М. О трансформациях «натуральной новеллы» и двух «реализмах» в русской литературе XIX века // Русская новелла: проблемы теории и истории: сб. ст. / под ред. В. М. Марковича, В. Шмида; СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1993. С. 113–134.
- Михаил (Насонов), свящ. «Пластика духовная». Богословие иконы Алексея Степановича Хомякова // Икона в русской словесности и культуре: сб. ст. М.: Паломник, 2012. С. 168–172.
- Модзалевский Б. Л. Работы П. В. Анненкова о Пушкине // Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л.: Прибой, 1929. С. 275–396.
- Петровский М. А. Таинственное у Тургенева // Творчество Тургенева: сб. ст. / под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова. М.: Задруга, 1920. С. 70–97 [Электронный ресурс]. URL: https://library.turgenev.ru/wp-content/uploads/2019/12/Tvorchestvo_Turgeneva.pdf (20.01.2024).
- Постовалова В. И. «Памяти животворящий свет…» (к герменевтике литургического воспоминания) // Научно–педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. 2013. № 1 (13). С. 90–111 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pamyati-zhivotvoryaschiysvet-k-germenevtike-liturgicheskogo-vospominaniya/viewer (20.01.2024). EDN: PXBFNR
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. 4-е изд. Л.: Наука, 1977–1979.
- Пырков И. В. Ритм, пространство и время в русской усадебной литературе ХIХ века: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. П. Чехов: дис. … д-ра филол. наук. Саратов, 2018. 512 с.
- Тарасов О. Ю. Икона и благочестие: очерки иконного дела в императорской России. М.: Прогресс-культура, Традиция, 1995. 495 с.
- Топоров В. Н. Из истории русской литературы. М.: Языки славянской культуры, 2007. Т. II: русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации. М. Н. Муравьев: введение в творческое наследие. Кн. III. 684 с. (Сер.: Язык. Семиотика. Культура.)
- Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Письма: в 18 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1978–2014.
- Тынянов Ю. Н. Литературный факт. М.: Высшая школа, 1993. 319 с. (Сер.: Классика литературной науки.)
- Фридлендер Г. М. Первая биография Пушкина // Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М.: Современник, 1984. С. 5–31.
- Элиаде М. Священное и мирское / пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Грабовского. М.: Изд-во МГУ, 1994. 144 с.