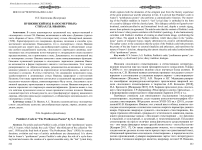Пушкинский код в "посмертных" стихах Г.В. Иванова
Автор: Коптелова Наталия Геннадьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется пушкинский код, присутствующий в «посмертных» стихах Г.В. Иванова, включающих в себя цикл «Дневник» (третью часть сборника «Стихи», 1958) и итоговую книгу стихов «Посмертный дневник» (1958). Характеризуются его содержание, функции, эволюция и способы художественного воплощения. Показывается, что в «посмертных» стихах Иванова пушкинский код играет роль циклообразующей скрепы и обеспечивает создание особого ансамблевого единства, «последнего» лирического дневника, запечатлевшего как отталкивание поэта-эмигранта от литературного опыта великого предшественника, так и притяжение к нему. Доказывается, что пушкинский код в «посмертных стихах» Иванова выполняет также коммуникативную функцию. Освоение пушкинской традиции в «последнем» лирическом дневнике Иванова воплощается в форме творческого диалога с поэтом-классиком. Этот диалог разворачивается на образно-мотивном, реминисцентно-аллюзивном и интонационном уровнях и, несмотря на определенную зигзагообразность, движется от полемики к согласию. В статье отмечается, что содержание пушкинского кода, задействованного в дневниковых стихах Иванова, коррелирует с поэтологией Пушкина. Оно также гармонично соотносится с пушкинской традицией создания идеального женского образа, символизирующего Музу поэта. Апелляция к пушкинской традиции, происходящая в «посмертных» стихах Иванова-эмигранта, во многом определяет его творческую самоидентификацию. Делается вывод о том, что действие пушкинского кода не только продвигает поэзию позднего Иванова к внешней простоте и безыскусности, но и трансформирует природу ивановского лиризма, обостряя предельную искренность и обнаженную исповедальность его «посмертных» стихов.
Г.в. иванов, а.с. пушкин, пушкинский код, посмертные стихи, ансамблевое единство, циклообразующая скрепа, лирика, дневник, традиция, диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/149141331
IDR: 149141331 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-242
Текст научной статьи Пушкинский код в "посмертных" стихах Г.В. Иванова
Феномен «последнего стихотворения» в отечественном литературоведении находится еще на стадии предварительного осмысления. Однако в 2000-е гг. это литературное явление стало изучаться более активно. В частности, С.В. Жиляков выявил ключевые признаки «последнего стихотворения» в соотношении со смежным жанром лирики - стихотворением-«Памятником» [Жиляков 2011]. А.В. Петров и Н.Г. Медведева раскрыли своеобразие индивидуально-авторского преломления жанровой модели «последнего стихотворения» в творчестве А.В. Кольцова [2018], И.А. Бродского [Медведева 2010]. О.В. Зырянов проследил роль «последнего стихотворения» Г.Р. Державина «Река времен в своем стремленьи...» в формировании сверхтекстового образования [Зырянов 2015] и т.д.
Значимым стимулом для интенсивного исследования «последнего стихотворения», несомненно, стало издание антологии-монографии «Последнее стихотворение 100 русских поэтов XVIII XX вв.» (2011), составленной Ю.В. Казариным. Именно этот ученый ввел в обиход понятие «последнее стихотворение» и попытался эскизно очертить параметры данного жанра. Определяя жанровую сущность «последнего стихотворения», Казарин стремился обозначить границы его эстетического диапазона, вмещающего разноплановые начала: «Последнее стихотворение - это феномен и языковой, и культурный, и духовный, и экзистенциальный. Последнее стихотворение не просто отличает конец физического существования поэта - оно также фиксирует начало другой жизни поэта - поэта без плоти» [Казарин 2011, 17]. Он также справедливо отметил, что в творческом наследии многих русских поэтов часто присутствует не единственный текст, обладающий приметами «последнего стихотворения», а парадигма поэтических произведений, суммарно выражающих черты этого литературного феномена. Сказанное напрямую касается, например, поэзии ГВ. Иванова,

во многом обогатившего традицию «посмертного» стихотворения и существенно повлиявшего на создание «последних стихов» ряда авторов XX в., в частности, Б. Рыжего [Семина 2016, 94].
Богатая палитра «последних стихов» Иванова становится его стилевой доминантой и, несомненно, вызвана к жизни экзистенциальным типом творческого сознания этого автора. Об экзистенциальной природе художественного мышления Иванова не раз писали отечественные литературоведы [Заманская 1996; Заманская 2018; Несынова 2007, 7, 15, 18, 21; Чехунова 2012]. Однако генезис парадигмы «последнего стихотворения» Иванова связан и с ориентацией его лирики на жанровую традицию дневника [Несынова 2007, 7, 17, 21; Тарасова 2009].
Примечательно, что в своем эмигрантском творчестве Иванов художественно воплотил такой вариант поэтической целостности, как ансамблевое единство [Тюпа 2002, 52], включающее в себя «посмертные» стихи, написанные в форме дневника. Оно объединяет два его последних творения: цикл «Дневник» (третью часть сборника «Стихи», 1958) и итоговую книгу стихов [Несынова 2007, 7, 17, 21] «Посмертный дневник» (1958) (вслед за М.Н. Дарвиным, Н.В. Барковской и другими исследователями мы воспринимаем книгу стихов как своеобразный «сверхцикл») [Дарвин 2008; Барковская, Верина, Гутрина 2014].
Разумеется, необходимо учитывать, что еще не вполне прояснены некоторые текстологические аспекты «Посмертного дневника», поскольку в его создании все-таки активное творческое соучастие принимала И.В. Одоевцева. На это резонно указывает А.Ю. Арьев, попытавшийся приблизиться к реконструкции творческой истории «Посмертного дневника» [Арьев 2011]. Тем не менее, содержательно-формальное единство «Дневника» и «Посмертного дневника» очерчивается вполне отчетливо [Арьев 2011, 58-59; Тарасова 2009, 366].
В то же время следует иметь в виду, что тяготение Иванова-лирика к форме дневника оказывается не только чертой его индивидуально-авторского художественного мышления, но и коррелирует с общими исканиями литературы XX в., развивавшейся во многом под знаком поэтики дневника [Криволапова 2012, 22-88]. Парадоксально то, что творческая стратегия Иванова, реализованная в «посмертных» стихах, выстраивается по формуле поэзии, предложенной Е.А. Баратынским и приведенной в авторском предисловии к первому сборнику лирики З.Н. Гиппиус («Необходимое о стихах», 1904): «Поэзия, как определил ее Баратынский, - “есть полное ощущение данной минуты”» [Гиппиус 1991, 47]. Эта формула, по сути, определяет дневниковое начало поэзии, активно проявленное не только в «посмертной» лирике Иванова, но и в творчестве Гиппиус. Кстати, она также отчасти предвосхищает художественные искания Иванова, направленные на создание ансамблевого единства, написанного в форме лирического дневника. Эту модель художественной интеграции Гиппиус использует до Иванова, когда на основе дневникового лиризма она фактически встраивает в сборник «Стихи. Дневник. 1911-1921» (Берлин, 1922) опу-

бликованный ранее цикл «Последние стихи. 1914-1918» (Петербург, 1918) (за исключением трех стихотворений). Да и в самом названии «Последние стихи» уже потенциально присутствуют и экзистенциальная оптика, и апокалиптическое звучание, характерные для «посмертных» стихов Иванова.
В «Дневнике» и «Посмертном дневнике» Иванова весьма значим пушкинский код, определяющий специфику лиризма и глубинные смыслы его «последних стихов». В понимании категории литературного кода мы идем от методологической линии Ю.М. Лотмана [Лотман 1996, 11-22], продолжаемой и развиваемой современными исследователями [Чернец 2018]. Мы солидаризируемся с точкой зрения Л.В. Чернец, утверждающей, что «“разработка” понятия код <...> помогает конкретнее изучить проблему литературной преемственности» [Чернец 2018, 22].
Проанализируем пушкинский код, присутствующий в «посмертных» стихах Иванова: охарактеризуем его содержание, функции, эволюцию и способы художественного воплощения.
Возникновение пушкинского кода в ивановском наследии вполне закономерно в силу общей востребованности пушкинской традиции в русской поэзии начала XX в. [Мусатов 2016], и особенно - в творчестве лириков первой волны эмиграции. Симптоматично, что еще в статье «Черноземные голоса» (1917), определяя творческие ориентиры поэзии, Иванов говорит о необходимости поиска такого слова, которое бы «вдруг засияло всеми цветами радуги, зазвенело, как горное эхо» [Иванов 1994, III, 486]. Само уподобление слова «эху» отсылает к известному стихотворению Пушкина «Эхо», а идеал «многоцветности», «радужности» словесного образа неожиданно перекликается с оценкой пушкинской лирики, данной В.С. Соловьёвым в статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (1899): «На самом деле в радужной поэзии Пушкина - все цвета, и попытка окрасить ее в один сама себя обличает явными натяжками и противоречиями, к которым она приводит» [Соловьёв 1990, 399].
Подобно В.Ф. Ходасевичу, Иванов был погружен в биографию и поэзию Пушкина на протяжении всего своего творческого пути. С Пушкиным он вел непрестанный диалог, правда, переключающийся порой в полярные смысловые регистры. Ивановская лирика наполнена разнообразно выраженными авторскими рефлексиями и на биографию первого поэта России [Леонтьева 2019], и на его художественные произведения. При этом творческое воплощение пушкинского кода в эмигрантской лирике Иванова порой транслировало его полемику с великим предшественником и даже демонстрировало желание опровергнуть открытые Пушкиным ценности бытия. В некоторых эмигрантских стихотворениях, предшествующих лирическим «дневникам», Иванов с горькой иронией перечеркивал пушкинскую веру в вечную жизнь поэтического слова, в преображающую силу словесной «музыки», столь оптимистично провозглашенную первым поэтом России в «Памятнике». В стихотворении «Медленно и неуверенно...» («Розы») Иванов писал:

Все в этом мире по-прежнему. Месяц встает, как вставал, Пушкин именье закладывал Или жену ревновал.
И ничего не исправила, Не помогла ничему, Смутная, чудная музыка, Слышная только ему [Иванов 1994,1, 291].
В стихотворении «Игра судьбы. Игра добра и зла...» («Портрет без сходства») Иванов даже раздраженно «перелицовывал» пушкинское откровение («Нет, весь я не умру»), как неуместно пафосное, мало утешающее и абсолютно выпадающее из мироощущения художника кризисного XX в., находящегося на грани жизни и смерти: «Допустим, как поэт, я не умру. / Зато как человек я умираю» [Иванов 1994,1, 321].
Экзистенциально измеряющий современность, лирический герой Иванова 1930-1940 гг. при всем своем желании никак не мог наследовать «радужную» пушкинскую цельность, его гармоническое мироощущение. Иванов попросту был лишен характерной для Пушкина искренней надежды на возможность счастья и свободы. Поэтому его стихотворение «Стоило ли этого счастье безрассудное?..» («Портрет без сходства») [Иванов 1994,1, 343] во многом прочитывается как опровержение стихотворения Пушкина «Редеет облаков летучая гряда...» [Ушакова 2020, 99-100]. А стихотворение Иванова «Снова море, снова пальмы...» («Rayon de гауоппе») [Иванов 1994,1, 360] воспринимается как лирическая антиномия отрывку из поэмы «Цыганы» «Птичка Божия не знает...». Справедливо указывает О.Н. Ушакова: «Образ “птички” у Пушкина связан, бесспорно, с божественным началом, что характеризуется в тексте эпитетом “Божия” и метафорой “гласу Бога внемлет”. Она становится символом человеческой души, открытой для свободного полета, доброты и милосердия» [Ушакова 2020, 101].
Для поэта-эмигранта, в отличие от Пушкина, мир не имел достаточно прочного теологического оправдания. Хотя жажда Бога все-таки была импульсом духовных исканий Иванова, характеризующихся крайне противоречивостью. Об этом можно судить по фрагменту из «лирической поэмы в прозе» (жанровое определение В.Ф. Ходасевича) «Распад атома» (1938): «Я думаю о различных вещах и, сквозь них, непрерывно думаю о Боге. Иногда мне кажется, что Бог также непрерывно, сквозь тысячу посторонних вещей, думает обо мне. Иногда мне чудится даже, что моя боль - частица Божьего существа. <...> Минута слабости, когда хочется произнести вслух “Верю, Господи...”. Отрезвление, мгновенно вступающее в права после минуты слабости» [Иванов 1994, II, 7].
В кризисном «Распаде атома», отождествляя Россию, уничтожившую «соль земли» («Торжественно кончается весна...», «Дневник»), с Пушки-246

ным, Иванов предъявляет великому поэту жесткий счет: «По чужому городу идет потерянный человек. Пустота, как морской прилив, понемногу захлестывает его. Он не противится ей. Уходя, он бормочет про себя - Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?» [Иванов 1994, II, 7]. Как убедительно показывает ГС. Василькова, скептическое отторжение Иванова от творческого наследия Пушкина в 1930-1940 гг. было во многом стимулировано и «подогрето» празднованием в Русском зарубежье пушкинского юбилея в 1937 г. [Василькова 2017].
Очевидно, что в стихотворении «Голубизна чужого моря...» («Rayon de гауоппе») отрицание Ивановым пушкинского миропонимания достигает кощунственного предела, так как происходит в форме язвительной пародии [Иванов 1994, I, 364]. В нем присутствует циничная имитация финала стихотворения Пушкина «В часы забав и праздной скуки...» (поэтический ответ митрополиту Филарету): «И внемлет арфе Серафима / В священном ужасе петух» [Иванов 1994, I, 364]. Образ поэта, подчиняющегося у Пушкина небесной «музыке», послушного «веленью божьему», трансформируется Ивановым в гротескно сниженный, карикатурный образ «петуха». Обретение веры в Творца, вдохновляющей художника, трепетно воспетое Пушкиным, сменяется у Иванова констатацией полной духовной опустошенности.
Однако в «посмертных» дневниковых стихах Иванова, образующих парадигму его «последних стихотворений», в отношении к пушкинскому коду происходит явный сдвиг. Но этот сдвиг диалектичен и имеет сложный механизм. Так, в стихотворении «Полутона рябины и малины...», вошедшем в цикл «Дневник», Иванов создает поэтический коллаж из отсылок ко многим литературным произведениям (И.-В. Гёте, М.Ю. Лермонтова, И.П. Мятлева, И.С. Тургенева, И. Северянина и др.). «Пестрая» интертекстуальная основа этого произведения достаточно подробно раскрыта литературоведами [Марков 1994; Мосешвили 1994, 617; Данилович 2001, 210-211; Фомина 2016; Федякин 2021, 111-114]. В его структуре весьма значимое место занимает пушкинский пласт.
В частности, в стихотворении «Полутона рябины и малины...» угадывается саркастический отклик Иванова на финальные строки из философского стихотворения Пушкина «Телега жизни» (1823): «Катит по-прежнему телега: / Под вечер мы привыкли к ней / И дремля едем до ночлега - / А время гонит лошадей [Пушкин 1977-1979, II, 160]. Если у Пушкина грустная ирония сплавлена с мудрым и смиренным приятием законов бытия, данных свыше, то у Иванова доминирует нигилистическое отталкивание от «телеги жизни», которая характеризуется уничтожающими эпитетами «скрипящая» и «немазанная»: «Скрипящая в трансцендентальном плане, / Немазанная катится телега» [Иванов 1994,1, 378].
Современная жизнь в восприятии лирического героя Иванова наполнена неразложимыми контрастами: «Сияет жизнь улыбкой изумленной, / Растит цветы, расстреливает пленных» [Иванов 1994, I, 378]. Причем
органической частью этой противоречивой жизни оказываются и разнообразные литературные впечатления лирического субъекта, сотканные в прихотливую мозаику цитат, в которой ведущую роль играют отсылки к пушкинскому творчеству Иванов иронично играет собственными ассоциациями, причудливо монтируя реминисценции и аллюзии на пушкинские творения. Исследователи подметили, что в его остроумном лирическом «конспекте» (центоне) есть намек на шутливые строки пушкинского стихотворения «Признание» («В меланхоличном имени Алины») [Фомина 2016, 876; Федякин 2021, 111]. В этом стихотворении присутствуют и упоминание «трепетных ланей» из поэмы «Полтава», и воссоздание названия раннего стихотворения Пушкина «Эвлега» [Мосешвили 1994, 617; Федякин 2021, 111112], и перифраз из известного шедевра («на Грузию ложится мгла ночная») [Мосешвили 1994, 617; Фомина 2016, 876-877; Федякин 2021, 111-112]. В нем содержится также указание на один из самых востребованных Пушкиным жанров лирики - элегию.
Однако в противоположность мироприемлющему Пушкину, с доверием принимающему непреложные законы жизни, внушенные промыслом Божьим, Иванов завершает свое стихотворение принципиально иным выбором, сформулированным жестко и вызывающе: «И лучше умереть» [Иванов 1994,1, 378]. Ностальгия по красоте и гармонии пушкинской поэзии, восхищение ею, пусть и выраженное в парадоксально «остраненной» и ироничной форме, рождают у лирического героя Иванова боль отчаянья, вызванную мыслью о невозможности вернуть духовное равновесие, характерное не только для мировосприятия Пушкина, но и для классической литературы в целом. Отсюда - ожесточение лирического субъекта и его желание умереть, не растравляя свою душу воспоминаниями о совершенстве словесного искусства прошлого: «И лучше умереть, не вспоминая, / Как хороши, как свежи были розы» [Иванов 1994,1, 378].
курсив авторский. - Н.К.) [Жолковский 2009, 145].
Жолковский справедливо признает позитивное влияние просветляющего оптимизма Пушкина на настроение поэта-эмигранта, подчеркивая, что в этом стихотворении запечатлен «переход от типичной для позднего Иванова экзистенциальной обреченности к неуверенному проблеску надежды» [Жолковский 2009, 153]. Но при этом он заключает: «Как часто бывает, предлагаемое позитивное решение проблемы уступает в эстетической убедительности ее новаторской негативной постановке: отчаяние удается Иванову лучше, чем надежда» [Жолковский 2009, 151]. Со своей стороны мы никак не можем разделить эту точку зрения уважаемого исследователя и полагаем, что завершающие строки одного из самых светлых «посмертных» стихотворений Иванова, вдохновленные гением Пушкина, обладают свойством пронзительной искренности и убедительности и по своей художественной силе не уступают трагическому началу данного произведения. В соответствии с законами дневникового лиризма, они точно выражают «“полное ощущение данной минуты”» [Гиппиус 1991, 47] и свидетельствуют о том, что, подобно В.Ф. Ходасевичу, в самое тяжелое для себя время Иванов пытался «лечить» свою душу, измученную «гамлетовскими» сомнениями, именно пушкинской поэзией:
А если не предрешено?
Тогда. ..Ия могу проснуться -(О, только разбуди меня),
Широко распахнуть окно Сиянью завтрашнего дня [Иванов 1994,1, 399].
Это становится еще более очевидным в «Посмертном дневнике» Иванова, открывающемся интимным и по-детски доверчивым обращением к Пушкину. Первая строфа ивановского стихотворения сколь шутливая, столь и восторженная: «Александр Сергеевич, я о вас скучаю. / С вами посидеть бы, с вами б выпить чаю. / Вы бы говорили, я б, развесив уши, / Слушал бы да слушал» [Иванов 1994,1, 553]. В ней нет почтительной дистанции лирического субъекта от великого предшественника, что, по словам ГС. Васильковой, всегда отличало отношение Иванова к Пушкину [Василькова 2017, 84]. Ю.В. Несыпова верно отмечает, что в этом произведении Иванова воплотилась «жажда разговора» с Пушкиным «“по душам” в житейской бытовой обстановке» [Несынова 2007, 15]. Действительно, лирический герой ведет задушевный разговор с классиком вполне непринужденно. И это транслирует просторечная стилистика (например, фразеологическое выражение «развесив уши»), «Обытовление» лирического нарратива, мотивированное «домашней» ситуацией чаепития, еще более сокращает расстояние между лирическим героем стихотворения и
адресатом, Пушкиным, и в подтексте неожиданно создает самоироничную отсылку Иванова к известной реплике гоголевского Хлестакова: «С Пушкиным на дружеской ноге». Интимная интонация этого стихотворения и его установка на исповедь, на разговор о глубоко сокровенном, отчасти даже напоминает стихотворение «Юбилейное» В.В. Маяковского (1924) («Александр Сергеевич, / разрешите представиться...»).
В стихотворении «Александр Сергеевич, я о вас скучаю...» Иванов, чье творчество, как правило, развивается по спирали, прибегает к одному из излюбленных своих приемов: он переосмысливает один из более ранних своих мотивов - мотив чаепития с томиком Пушкина, репрезентированный в стихотворении «В широких окнах сельский вид...», вошедшем в сборник «Лампада» (1922). Но, как точно подчеркивает Н.М. Солнцева, тогда «Иванову было двадцать восемь лет» и «чаепитие с Пушкиным имело иную, гедонистскую, коннотацию» [Солнцева 2011, 185]. Действительно, упомянутое раннее стихотворение Иванова приближается к жанру идиллии и выражает абсолютно гармоничное состояние души лирического героя, навеянное сладостной пушкинской поэзией, уподобленной целительному меду:
В широких окнах сельский вид, У синих стен простые кресла, И пол некрашеный скрипит, И радость тихая воскресла.
Вновь одиночество со мной...
Поэзии раскрылись соты.
Пленяют милой стариной
Потертой кожи переплеты.
Легки оковы бытия...
Так, не томясь и не скучая, Всю жизнь свою провел бы я
За Пушкиным и чашкой чая [Иванов 1994,1, 107].
В стихотворении «Александр Сергеевич, я о вас скучаю...» сохраняется мотив желанной близости к Пушкину, как к самому дорогому и любимому собеседнику. Но во второй строфе происходит очевидная трансформация пушкинского кода, связанная с его переключением в экзистенциальное измерение. Лирический герой Иванова чувствует родство с Пушкиным-человеком, бесконечно страдающим на пороге смерти: «Вы мне все роднее, вы мне все дороже. / Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже / Захлебнуться горем, злиться, презирать, / Вам пришлось ведь тоже трудно умирать» [Иванов 1994,1, 553]. В стихотворении «Александр Сер-
геевич, я о вас скучаю...» Иванов сталкивает две строфы, контрастные по лирической тональности, начиная с юмористического мажора и завершая трагическим надрывом.
Пушкинский код присутствует и в четвертом стихотворении «Посмертного дневника» Иванова «Мне уж не придется впредь...». Оно также передает резкие перепады в настроении лирического героя. В начале произведения мортальный мотив подан в нарочито обыденном, бытовом ключе и в то же время он звучит предельно искренне: «Мне уж не придется впредь, / Чистить зубы, щеки брить» [Иванов 1994,1, 556]. Лирическая структура стихотворения полифонична: вслед за голосом лирического «я», ассоциирующегося с настоящим, вступает голос его психологического двойника, звучащий как эхо прошлого: «Перед тем, как умереть, / Надо же поговорить» [Иванов 1994, I, 556]. Это вольная контаминированная автоцитата, состоящая из строк ивановского стихотворения «Перед тем, как умереть...» (1930), вошедшего в сборник «Розы» [Иванов, I, 261]. Стоит отметить, что лейтмотив «разговора» в «посмертных стихах» выполняет функцию циклообразующей скрепы. Особенно часто он встречается в «Посмертном дневнике». В стихотворении «Мне уж не придется впредь...» незримым и желанным собеседником лирического героя, находящегося на пороге смерти, снова оказывается Пушкин. Его поэзия настраивает лирического субъекта на высокий мистический лад. Неслучайно первая строка второй строфы пронизана возвышенной интонацией, подсказанной философской лирикой позднего Пушкина, открывающей для Иванова онтологические глубины: «В вечность распахнулась дверь» [Иванов 1994, I, 556]. Маркером пушкинского кода в этом произведении Иванова является усеченная строка из стихотворения «Пора мой друг, пора! покоя сердца просит...» (1834), входящего в парадигму «последнего стихотворения» Пушкина. Композиционным стержнем пушкинского произведения становится повторяющийся мотив «покоя»: «покоя сердце просит»; «На свете счастья нет, но есть покой и воля» [Пушкин 1977-1979, III, 258]. Раскрывая смысловое наполнение указанного мотива, И.З. Сурат, точно указывает: «Конечно, это слово (“покой”. - Н.К.) означает не успокоенность обыденную, но высший покой, даваемый чистотою души, и вечный покой смерти» [Сурат 1995, 99].
Впитывая духовную энергию Пушкина, лирический герой Иванова мечтает получить заряд от светлого и все уравновешивающего пушкинского миросозерцания, чтобы мудро и смиренно принять конец своего земного существования, как заслуженный покой: «Просветлиться бы теперь, / Жизни прокричать ура! / Стариковски помудреть, / С миром душу примирить» [Иванов 1994,1, 556]. Но рассматриваемое ивановское стихотворение, как и «Александр Сергеевич, я о вас скучаю...», снова завершается прорывом экзистенциального отчаяния, а по сути, жестким отказом от предсмертного исповедального слова: «...Перед тем, как умереть, / Не о чем мне говорить» [Иванов 1994, I, 556]. Финал произведения опрокидывает возвышенную и умиротворяющую сакральность пушкинского 251
стихотворения, уравнивающего творческий «покой» художника и «вечный покой смерти». Но он перечеркивает и желание «поговорить» (то есть выговориться), высказанное лирическим субъектом «Роз» и вполне естественное для умирающего человека.
Таким образом, лирический герой Иванова остается в тупике одиночества и бессмысленности завершающейся земной жизни. Даже при помощи поэзии Пушкина, к которой он апеллирует, лирический субъект не может справиться с душевной пустотой, рожденной «мировым уродством» («Распад атома»), В то же время эта жесткая декларация «немоты» в конце стихотворения («Не о чем мне говорить») воспринимается и как момент беспощадного творческого самосуда Иванова, отсылающего к нелицеприятной оценке А. Блоком ивановского сборника «Горница»: «Слушая такие стихи, как собранные в книжке Г. Иванова “Горница”, можно вдруг заплакать - не о стихах, не об авторе их, а о нашем бессилии, о том, что есть такие страшные стихи ни о чем, не обделенные ничем - ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем - как будто нет этих стихов, они обделены всем, и ничего с этим сделать нельзя» [Блок 1962, 337].
Очевидно, диалог Иванова с пушкинской традицией в «Посмертном дневнике» не прямолинеен, он развивается «маятникообразно» и даже «зигзагообразно». Но важно то, что этот диалог все-таки заканчивается творческим согласием поэта-эмигранта с Пушкиным. В связи с этим заслуживает безусловного доверия вывод, сделанный В.В. Мусатовым: «Для каждого из крупных поэтов русского “серебряного века” Пушкин был способом возвращения к самому себе, к органическим основам собственного поэтического дарования, а значит, к пониманию действительности в ее не-сводимости к “идее”, в ее разнородности и широте» [Мусатов 2016, 293]. «Возвращение к самому себе» происходит в ивановском стихотворении «В ветвях олеандровых трель соловья...», которое в контексте «Посмертного дневника» прочитывается как поэтическое завещание его автора. По своему тону оно полемично пессимистическому стихотворению «Игра судьбы. Игра добра и зла...» («Портрет без сходства»), в котором бессмертие поэтического творчества, в принципе, также признается: «Допустим, как поэт, я не умру. / Зато как человек я умираю» [Иванов 1994,1, 321]. Теперь же вера в вечную жизнь поэзии, восходящая к пушкинскому «Памятнику», порождает светлую надежду лирического героя не только на личное воскресение, но и на возвращение на родину: «Но я не забыл, что обещано мне / Воскреснуть. Вернуться в Россию стихами» [Иванов 1994,1, 556].
Пушкинский код присутствует и в стихотворении «А что такое вдохновенье?..», имеющего насыщенную интертекстуальную основу, программирующую, в частности, переклички со стихотворениями Ф.И. Тютчева («Цицерон») и М.И. Цветаевой («В черном небе слова начертаны...»): «А что такое вдохновенье? / - Так ... Неожиданно, слегка / Сияющее дуновенье / Божественного ветерка» [Иванов 1994, I, 576]. Образная формула «дуновенье Божественного ветерка», определяющая сущность вдохновения, несомненно, восходит и к пушкинской поэзии. С одной стороны, она
вполне согласуется с мотивом послушания Музы божьей воле, венчающим «Памятник» Пушкина и окончательно утверждающим религиозную природу поэтического творчества: «Веленью божию, о муза, будь послушна» [Пушкин 1977-1979, III, 340]. А с другой стороны, эта формула ассоциируется с характеристикой Музы, представленной в раннем стихотворении Пушкина «О, боги мирные дубров и гор...» (1824) [Гринбаум 2006, 55-56], и намекает на абсолютную свободу и артистизм пушкинской лирики, столь ценимые автором «Посмертного дневника»:
О боги мирные полей, дубров и гор,
Мой Аполлон ваш любит разговор,
Меж вами я нашел и музу молодую,
Подругу дней моих невинную, простую,
Но чем-то милую - не правда ли, друзья?
И своенравная волшебница моя,
Как тихий ветерок иль пчелка золотая,
Иль беглый поцелуй, туда, сюда летая [Пушкин 1977-1979, II, 181].
Прекрасный облик пушкинской Музы в определенной мере проецируется и на образ героини «посмертных стихов» Иванова, прототипом которой, несомненно, стала верная спутница Иванова И.В. Одоевцева. В стихотворениях «Ты не расслышала, а я не повторил...» и «Распыленный мильоном мельчайших частиц...», вошедших в цикл «Дневник», любимая женщина становится воплощением Музы. От нее, как от пушкинского «гения чистого красоты», идет импульс поэтического вдохновения. В итоге - любовь и художественное творчество для лирического героя Иванова дневниковых циклов сливаются воедино [Несынова 2007, 19]. Они становятся мостом на пути к вечности: «Вот наша жизнь прошла, / А это не пройдет» [Иванов 1994,1, 438]; «Я вернусь - отраженьем - в потерянном мире» [Иванов 1994,1, 439].
Характеризуя образ женщины, созданный в стихотворениях «Посмертного дневника», Н.М. Солнцева тонко подмечает: «[О]на - ангел, подобно избраннице Пушкина. Иванов пишет: “Ангел мой”, “Бедный мой ангел", “Какой прелестной ты была / С большой охапкою сирени, / Вся в белом, в белых башмаках”» [Солнцева 2011, 185]. Примечательно, что светлый образ женщины-Музы и в «Дневнике», и в «Посмертном дневнике» не раз уподобляется Ивановым «чудному мгновенью», воспетому Пушкиным и посетившему лирического субъекта в снах-воспоминаниях. Причем это «чудное мгновенье» происходит непременно весной: «Черемуха в твоих руках цвела» [Иванов 1994, I, 438]; «В голубой белизне петербургского мая» [Иванов 1994,1, 439]; «Какой прелестной ты была / С большой охапкою сирени» [Иванов 1994, I, 587]. Специфика художественного времени в лирическом повествовании, очевидно, мотивирована фактами автобиографии Иванова и в определенном смысле противопоставляет названные «посмертные» стихотворения образному миру Пушкина, как известно,
воспевшего в своих стихах осень. Однако пространство, в котором проходят судьбоносные встречи лирического героя и его возлюбленной-Музы, носительницы тайны женственности и гармонии бытия, все-таки нерасторжимо связано с жизнью и творчеством Пушкина: это - «Петербург» [Иванов 1994,1, 438], «Летний Сад» [Иванов 1994,1, 439], «Царское Село» [Иванов 1994,1,587].
Наконец, пушкинский код своеобразно запечатлен и в стихотворении «Поговори со мной еще немного...», которое фактически завершает «Посмертный дневник» Иванова. Оно отличается особой исповедальностью и проникновенностью. В нем отчетливо слышатся «ноты» пушкинской поэзии. В этом произведении нет надрывного отчаяния. Прощание с жизнью и любимой женщиной для лирического героя наполнено благодарностью и светом:
Поговори со мной еще немного, Не засыпай до утренней зари. Уже кончается моя дорога, О, говори со мною, говори!
Пускай прелестных звуков столкновенье, Картавый, легкий голос твой Преобразят стихотворенье
Последнее, написанное мной [Иванов 1994,1, 590].
Облик героини в чем-то ассоциируется с образом, созданным в пушкинском стихотворении «Мадонна» (1830). Это подчеркивается общей эмоциональной тональностью ивановского стихотворения, выдержанной в едином, мироприемлющем, ключе, в отличие от многих произведений в «дневниковых» циклах, построенных на резком переключении лирического регистра, передающем перепад настроений, метания от надежды к отчаянью. К пушкинскому словарю отсылает и лексическая наполняемость текста ивановского произведения. У Пушкина читаем: «Чистейшей прелести чистейший образец» [Пушкин 1977-1979, III, 166]. Отзвук процитированной пушкинской строки слышится в таком словосочетании стихотворения Иванова, как «прелестных звуков столкновенье» [Иванов 1994,1, 590].
В стихотворении «Поговори со мной еще немного...» лирический герой Иванова вновь возвращается к «чудной» музыке, «слышной только» Пушкину («Медленно и неуверенно...»), а впоследствии и Блоку, как наследнику пушкинской традиции. Причем, как и в стихотворении Пушкина «Я помню чудное мгновенье...» (1825), вдохновляющую «музыку» пробуждает «голос нежный» [Пушкин 1977-1979, II, 265] («[П]релестных звуков столкновенье, / Картавый, легкий голос твой»), в который лирический субъект жадно вслушивается на пороге смерти. Поэт верит в то, что звуковая стихия, воплощенная в голосе верной спутницы и в интонациях
ее чарующей речи, чудесным образом вдохнет в его последнее стихотворение обновляющую творческую энергию. В этом стихотворении под влиянием философии творчества позднего Пушкина и, прежде всего, его «Памятника», происходит окончательная смена смыслового акцента в оппозиции «человек - поэт», устойчивой в лирической системе Иванова [Несынова 2007, 20]. Вслед за великим предшественником Иванов верит, что с концом земного пути, он не теряет возможности обрести бессмертие в поэтическом творчестве.
Таким образом, в «посмертных» стихах Иванова весьма значим пушкинский код. Играя роль поэтического интегратора, он активно участвует в создании ансамблевого единства, венчающего творческий путь лирика-эмигранта. По сути, пушкинский код, является одним из смысловых стержней «последнего» лирического дневника, запечатлевшего как отталкивание Иванова от литературного опыта великого предшественника, так и притяжение к нему.
В «посмертных» стихах Иванова пушкинский код выполняет также коммуникативную функцию. Освоение пушкинской традиции в «последнем» лирическом дневнике Иванова воплощается в форме творческого диалога с поэтом-классиком. Этот диалог разворачивается на образно-мо-тивном, реминисцентно-аллюзивном и интонационном уровнях. Причем, несмотря на определенную зигзагообразность, он движется от полемики к согласию.
Содержание пушкинского кода, задействованного в «посмертных» стихах Иванова, коррелирует, прежде всего, с поэтологией Пушкина. Оно также гармонично соотносится с пушкинской традицией создания идеального женского образа, символизирующего Музу поэта.
Апелляция к пушкинской традиции, происходящая в «посмертных» стихах Иванова-эмигранта, во многом обеспечивает его творческую самоидентификацию. Действие пушкинского кода не только продвигает поэзию позднего Иванова к внешней простоте и безыскусности, характерной для стиля первого поэта России, но и трансформирует природу ивановского лиризма, обостряя предельную искренность и обнаженную исповедаль-ность его «посмертных» стихов.
Список литературы Пушкинский код в "посмертных" стихах Г.В. Иванова
- Арьев А.Ю. Взаимно искажая отраженья: Ирина Одоевцева и «Посмертный дневник» Георгия Иванова // Россия и Запад: сборник статей в честь 70-летия К.М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 35-59.
- Барковская Н.В., Верина УЮ., Гутрина Л.Д. Книга стихов как теоретическая проблема // Филологический класс. 2014. № 1 (35). С. 20-23.
- Блок А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6: Проза 1918-1921 / подг. текста Д.Е. Максимова, Г.А. Шабельской; примеч. Г.А. Шабельской. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. 556 с.
- Василькова Г.С. «Распад атома» Георгия Иванова как «эхо» пушкинских дней 1937 года в Русском зарубежье // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2017. № 5. С. 82-90.
- Гиппиус З. Необходимое о стихах // Гиппиус З. Сочинения: Стихотворения; Проза / сост., подгот. текста, вступ. ст., комм. К. Азадовского, А. Лаврова. Л.: Художественная литература, 1991. С. 46-49.
- Гринбаум О.Н. К вопросу о ритмико-экспрессивных образах пушкинской музы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. 2006. № 2. С. 55-72.
- Данилович Т.В. Поэзия русского зарубежья: творчество Г. Иванова в аспекте интертекстуального анализа // Наука о литературе в ХХ веке (История, методология, литературный процесс): сб. статей. М.: ИНИОН РАН, 2001. С. 201-217.
- Дарвин М.Н. Книга стихов // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Издательство Кулагиной; ¡йга^, 2008. С. 96-97.
- Жиляков С.В. Жанровая традиция стихотворения-Памятника в русской поэзии ХУШ-ХХ вв.: автореф. дис. . к. филол. н.: 10.01.01. Елец, 2011. 22 с.
- Жолковский А.К. Так и этак Георгия Иванова («Луны начищенный пятак.») // Жолковский А.К. Новая и новейшая русская поэзия. М.: РГГУ, 2009. С. 142-151.
- Заманская В.В. Антитеза жизни / смерти в творчестве Г. Иванова: Параметры, образное воплощение, «масштабы» экзистенциального мышления поэта // Заманская В.В. Русская литература первой половины XX века: Проблема экзистенциального сознания. Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. ун-та; Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского пединститута, 1996. С. 347-380.
- Заманская В.В. Г. Иванов: «умею только развоплощать» // Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века: Диалоги на границах столетий. Учебное пособие. М.: Флинта, 2018. С. 251-277.
- Зырянов О.В. «Река времен» как сверхтекстовое образование в русской поэзии ХК-ХХ вв. // Уральский филологический вестник. Серия: Русская классика: динамика художественных систем. 2015. № 3. С. 87-100.
- Иванов Г.В. Собрание сочинений: в 3 т. М.: Согласие, 1994.
- Казарин Ю.В. Предисловие // Последнее стихотворение 100 русских поэтов ХУШ-ХХ вв.: антология-монография. Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. ун-та, 2011. С. 9-64.
- Криволапова Е.М. Дневник в историко-культурном пространстве начала ХХ века // Криволапова Е.М. Дневники писателей круга В.В. Розанова (18931919 гг.): Жанр, творческий метод, историко-литературный контекст. Курск: Курский государственный университет, 2012. С. 22-88.
- Леонтьева А.Ю. Лирическая биография А.С. Пушкина в поэзии Г.В. Иванова // Евразийское научное объединение. 2019. № 2-5 (48). С. 298-302.
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера -история. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.
- Марков В.Ф. Русские цитатные поэты: заметки о поэзии П.А. Вяземского и Георгия Иванова // Марков В.Ф. О свободе в поэзии: Статьи, эссе, разное. СПб.: Изд-во Чернышёва, 1994. С. 214-232.
- Медведева Н.Г. К семантике «последнего стихотворения» в поэзии И. Бродского // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2010. № 4. С. 84-95.
- Мосешвили Г.И. Комментарии // Иванов Г.В. Собрание сочинений: К 100-летию со дня рождения: в 3 т. Т. 1: Стихотворения. М.: Согласие, 1994. С. 591-632.
- Мусатов В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины ХХ века. М.: Азбуковник, 2016. 720 с.
- Несынова Ю.В. Эволюция поэтической системы Г.В. Иванова: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Екатеринбург, 2007. 23 с.
- Петров А.В. «На новый 1842-й год» А.В. Кольцова: опыт контекстного прочтения «последнего стихотворения» // Libri Magistri. 2018. № 5. C. 48-59.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. / примеч. проф. Б.В. Томашевского. Л.: Наука, 1977-1979.
- Семина А.А. Голос из небытия: «Посмертный дневник» Георгия Иванова и Бориса Рыжего // Вестник Челябинского государственного университета. 2016. № 12 (394). С. 88-95.
- Солнцева Н.М. Есенинский контекст в «Посмертном дневнике» Георгия Иванова // Георгий Владимирович Иванов. Исследования и материалы: 1894-1958. Международная научная конференция / сост. и отв. ред. С.Р. Федякин. М.: Изд-во Литературного института им. А.М. Горького, 2011. С. 179-185.
- Соловьёв В.С. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М.: Книга, 1990. 574 с.
- Сурат И.З. «Жил на свете рыцарь бедный.» // Сурат И.З. Жизнь и лира. О Пушкине. М.: Книжный сад, 1995. С. 5-115.
- Тарасова И.А. Жанр дневника в поэзии Георгия Иванова // Жанры речи. 2009. № 6. С. 364-375.
- Тюпа В.И. Художественный дискурс (введение в теорию литературы). Тверь: Тверской государственный университет, 2002. 80 с.
- Ушакова О.Н. Проблема традиций русской поэзии в эмигрантской лирике Г.В. Иванова: дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Иваново, 2020. 232 с.
- Федякин С.Р. Мифотворчество Георгия Иванова // Литературоведческий журнал. 2021. № 2 (52). С. 86-122.
- Фомина П.А. Интертекст как способ реализации авторского замысла в стихотворении Г. Иванова «Полутона рябины и малины» // Science time. 2016. № 4 (28). С. 874-880.
- Чернец Л.В. О понятии «код» в литературоведении и о пейзаже в произведениях И.С. Тургенева // Тургеневские чтения: сборник статей Вып. 7 / сост. Т.Е. Коробкина, Е.Г. Петраш; научн. ред. Е.Г. Петраш. М.: Изд-во «Экон-Информ», 2018. С. 17-29.
- Чехунова О.А. Циклическая структура поэтических сборников Георгия Иванова 1930-х годов как отражение экзистенциальной картины мира: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Москва, 2012. 17 с.