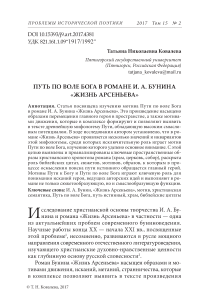Путь по воле бога в романе И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева"
Автор: Ковалева Татьяна Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.15, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению мотива Пути по воле Бога в романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева». Это произведение насыщено образами перемещения главного героя в пространстве, а также мотивами движения, которые в комплексе формируют и позволяют выявить в тексте древнейшую мифологему Пути, обладающую высоким смысловым потенциалом. В ходе исследования автором установлено, что в романе «Жизнь Арсеньева» проявляется несколько значений и инвариантов этой мифологемы, среди которых исключительную роль играет мотив Пути по воле Бога, изучению которого уделено основное внимание. С этой целью выявлены и проанализированы ключевые пространственные образы христианского хронотопа романа (храм, церковь, собор), раскрыта роль библейских цитат, сюжетов, мотивов, образов, к которым в процессе осмысления поиска пути истинного обращается главный герой. Мотивы Пути к Богу и Пути по воле Бога играют ключевую роль для понимания исканий героя, ведущих авторских идей и выполняют в романе не только сюжетообразующую, но и смыслообразующую функцию.
И. а. бунин, "жизнь арсеньева", мотив, христианская семантика, путь по воле бога, путь истинный, храм, библейские цитаты исследование христ
Короткий адрес: https://sciup.org/14749015
IDR: 14749015 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.2017.4381
Текст научной статьи Путь по воле бога в романе И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева"
И сследование христианской основы творчества И. А. Бунина и романа «Жизнь Арсеньева» в частности — одна из актуальнейших проблем современного буниноведения. Научные работы конца ХХ — начала ХХI вв., посвященные этой проблеме1, несомненно, развиваются в русле мощного направления современного отечественного литературоведения, изучающего христианские духовно-нравственные ценности как глубинную основу русской словесности2.
Роман Бунина «Жизнь Арсеньева» насыщен образами и мотивами движения, исканий, метаний, странничества, которые в комплексе позволяют выявить в тексте произведения древнейшую мифологему Пути, обладающую высоким смысловым потенциалом.
В романе выявляется несколько ключевых мотивов как инвариантов этой мифологемы. Прежде всего, это жизненный, мирской путь человека с радостями и горестями, обретениями и потерями, что актуализируется как в названии романа («Жизнь Арсеньева»), так и в многократном использовании в данном значении слова «путь».
Так, главный герой Алексей Арсеньев вспоминает о благословении матери « на жизненный путь, на исход в мир из того подобия иночества» (курсив мой. — Т. К .)3, которым было его детство, отрочество, время первых юных лет.
Начиная рассказ о своей юности, Арсеньев называет свой путь «небудничным»:
…впереди ожидал меня и впрямь немалый, небудничный путь (курсив мой. — Т. К .), целые годы скитаний, бездомности, существования безрассудного и беспорядочного, то бесконечно счастливого, то глубоко несчастного, словом, всего того, что, очевидно, и подобало мне и что, быть может, только с виду было так бесплодно и бессмысленно… (5, 138–139).
Таким образом, мотив пути в романе обретает второе значение: это путь духовных исканий, его движение к высшему смыслу, к высшей истине, поиском которых задано движение Арсеньева. Однако это не просто путь исканий — это искания Пути истинного . Об этом свидетельствует актуализация в романе христианского варианта мотива пути.
В. Н. Топоров в работе «Пространство и текст», исследуя «мифологему Пути» на обширном материале мировой культуры, отмечал ее значимость и колоссальный духовный потенциал: «Во многих мифопоэтических и религиозных традициях мифологема пути выступает не только в форме зримой реальной дороги, но и метафорически — как обозначение линии поведения (особенно часто нравственного, духовного), как некий свод правил, закон, учение, своего рода вероучение, религия» [17, 266–267]. Все великие духовные концепции подчеркивают, что «есть путь и его можно открыть» [17, 268]. Так, Будда называл свое учение Срединным путем. Такое же большое значение мифологема пути имеет и в китайской философии. В древнекитайских философско-религиозных трактатах утверждается, что есть «путь Неба и Земли», «правильный и неправильный пути»: «От [правильного] пути ни на миг нельзя отойти; то, от чего можно отойти, вовсе не является [правильным] путем», — читаем у Даодэц-зина (цит. по: [17, 269]).
Совершенно исключительную роль мотив пути играет в иудаизме и христианстве. В. Н. Топоров справедливо утверждает, что древнееврейский монотеизм и христианство строятся «как учение о пути, указуемом Господом» [17, 270]. Книги Ветхого Завета пронизаны мотивами и идеей Пути по воле Бога: «Укажи мне, Господи, пути Твои» (Пс. 24:4), «Ты укажешь мне путь жизни» (Пс. 15:11), «научи меня, Господи, пути Твоему» (Пс. 26:11), «все пути Господни — милость и истина» (Пс. 24:10), «держись пути Его» (Пс. 36:34), «Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам» (Втор. 5:33) и множество других примеров.
В Новом Завете символика пути и идея Пути по воле Бога продолжает развиваться: «Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь» (Мф. 22:16). В то же время в Евангелиях дан уже новый уровень осмысления Пути человека по воле Бога: показан «экзистенциально обнаженный и предельно личный, персонифицированный образ пути» — путь Христа [17, 271]: Фома сказал ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь (курсив мой. — Т. К .) и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин. 14: 5–6).
Мотив Пути к Богу и Пути по воле Бога имеет в романе «Жизнь Арсеньева» особое значение и играет ключевую роль для понимания исканий главного героя и ведущих авторских идей.
В своих воспоминаниях Арсеньев выделяет начало движения в «большой мир» и встречу с храмом как одно из основных событий детства, где «на первом месте стоит <…> первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех <…> последующих путешествий» (5, 10). Этим событием была поездка в город, с семиотической точки зрения предстающий образом большого мира, отождествляющийся с ним: все, что происходит в городе, имеет не только локально-городское, но и обобщающее «мировое» значение. Поэтому особый смысл приобретают пространственные образы и пространственное положение героя в описании этого макромира.
В городе-мире происходит первая встреча героя с храмом. Свой путь Арсеньев ощущает благословленным свыше: его «встречает» и «провожает» из города церковь Михаила Архангела. Герой подробно описывает, какое потрясающее впечатление произвели на него церковь Михаила Архангела и праздничный колокольный звон. Находясь с родителями на одном из верхних этажей гостиницы, Арсеньев оказывается над миром земным, но над ним самим господствует мир неба и храма:
Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в таком величии, в такой роскоши , какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса (курсив мой. — Т. К .) (5, 11).
Храм (церковь, собор) как образ христианского хронотопа, как сакральный центр города-мира, символ проявления Неба на земле, знак духовного бытия человека является сквозным пространственным образом романа. Путь Арсеньева неизменно проходит через него. Там душа героя переживает катарсис, находит успокоение, там в отрочестве укрепляется его вера в Бога. Все сцены в храме показаны Буниным крупным планом. Течение художественного времени в такие моменты сюжета замедляется: важно описание каждой минуты, каждой детали. Описывая церковную службу, Арсеньев подробно передает свои чувства:
Как все это волнует меня! <…> все это стало как бы частью моей души, и она, теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо, с вящей родственной готовностью. «Слава святей, единосущней» — слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий из алтаря, и уже всю службу стою я зачарованный.
— «Приидите поклонимся, приидите поклонимся… Благослови, душе моя, Господа », — слышу я, <…> и у меня застилает глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекрасней и выше всего этого нет и не может быть ничего на земле (курсив мой. — Т. К .) (5, 65).
Оторвавшись от родного дома, ощущая себя странником в большом мире, Арсеньев приходит в церковку Воздвижения «истинно как в отчую обитель» , успокаиваясь и очищаясь душой, «слушая скорбно-смиренное “Да исправится молитва моя” или сладостно-медлительное “ Свете Тихий — святыя славы бессмертного — Отца небесного — святого, блаженного — Иисусе Христе …” <…> или опускаясь на колени в тот таинственный и печальный миг, когда опять на время воцаряется глубокая тишина во всей церкви, опять тушат свечи, погружая ее в темную ветхозаветную ночь, а потом протяжно, осторожно, чуть слышно начинается как бы отдаленное, предрассветное: “ Слава в вышних Богу — и на земли мир — в человецех благоволение …” — с этими страстно-горестными и счастливыми троекратными рыданьями в середине: “ Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим !”» (курсив мой. — Т. К .) (5, 66).
Особую роль в развитии идеи Пути по воле Бога и в выражении авторского замысла в целом играет описание царских врат в храме. Бунин с удивительной глубиной понимания и в то же время поэтично раскрыл их символическое значение как части христианского хронотопа романа:
Закрываются и открываются Царские Врата, знаменуя то наше отторжение от потерянного нами рая, то новое лицезрение его, читаются дивные Светильничные молитвы, выражающие наше скорбное сознанье нашей земной слабости, беспомощности и наши домогания наставить нас на пути Божии, озаряются ярче и теплее своды церкви многими свечами, зажигаемыми в знак человеческих упований на грядущего Спасителя и озарения человеческих сердец надеждою, с крепкой верою в щедроты Божии звучат земные прошения великой ектении: «О свышнем мире и спасении душ наших…» (5, 66).
Знаменательно, что в молитвах, которые запомнились Арсеньеву на всю жизнь, звучат именно мотивы Пути человека к Богу и Пути по воле Бога, органично выражая идею спасения души на праведном пути к Богу: « Приидите поклонимся, при-идите поклонимся… Благослови , душе моя, Господа»; «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим!»; звучат «молитвы, выражающие наше скорбное сознанье нашей земной слабости, беспомощности и наши домогания наставить нас на пути Божии »; «О свышнем мире и спасении душ наших … » (курсив мой. — Т. Н .) (5, 65–66).
О своих духовных исканиях, о смысле бытия, высшей истине и о своем Пути Арсеньев размышлял именно с помощью библейских цитат, мотивов, образов, сюжетов. В конце 4-ой главы 1-ой книги Бунин вводит в воспоминания героя слова Господа из Ветхого Завета: «Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших…» (Ис. 55:9). Эта цитата из Библии, введенная в повествование после рассказа Арсеньева о судьбе и смерти матери, становится, выражением мысли о непостижимости Божьего замысла («Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» — Рим. 11:33), неоднократно звучащей в романе и связанной с темой судьбы человека. В контексте всего произведения она выражает идею Бога как символа высшего смысла и высшего закона бытия , согласно которому человек должен во всем видеть Божью волю и принимать ее. Размышляя в отрочестве о тайнах смерти, вспоминая умершего родственника Писарева и задаваясь вопросами, «где теперь этот человек, что с ним сталось, что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает?» — Арсеньев-ребенок обретает опору и успокоение в вере в Бога:
Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение, в них было даже что-то утешающее: где он — ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым (курсив мой. — Т. К .) (5, 105).
Это признание свидетельствует о том, что истина главенства воли Бога над волей, мыслями, желаниями человека входит в душу героя с детства. Поэтому так запоминается Арсеньеву-подростку в церкви молитва со «страстно-горестными и счастливыми» мольбами, наставляющая на путь истинный: «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим!» (курсив мой. — Т. К.) (5, 66).
В одном из кульминационных моментов романа вновь звучит идея Пути по воле Бога как истинного пути . Об этом свидетельствуют раздумья героя над своим первым крупным художественным замыслом, в которые Бунин вводит цитату из Библии, прямо и развернуто выражающую эту идею. Арсеньев вспоминает историю из Ветхого Завета об Аврааме, исполнившем волю Бога и выведшем свой народ из фараоновского рабства к земле обетованной: «“Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, обещанную ему в наследие, и пошел, не зная, куда он идет…” Да, не зная! Вот так же, как и я! “Верою повиновался призванию…”» (5, 203–204). Чувствуя в себе пробуждение творческого дара, главный герой воспринимает его не просто как «писательство», но, несомненно, и как форму самосознания . Бунин лишь один раз подробно описывает муки творчества Арсеньева — его работу над первым замыслом. Но на фоне обобщенного повествования о формировании писателя в главном герое такое замедление художественного времени подчеркивает значимость его чувств и раздумий.
Однако юный Арсеньев допускает опасную ошибку, вполне объяснимую в период его становления, самоутверждения в жизни и жажды самореализации. В его размышлениях происходит незаметная подмена Пути по воле Бога другим вариантом пути — жизнью, единственная цель которой — человеческое счастье: «…“Верою Авраам повиновался…” Вот так же, как и я! “Верою повиновался призванию…”. Верою во что? В любовную благость Божьего веления. “…И пошел, не зная куда…” Нет, зная: к какому-то счастью, то есть к тому, что будет мило, хорошо, даст радость, то есть чувство любви — жизнь… Так ведь и я жил всегда — только тем, что вызывало любовь, радость…» (курсив мой. — Т. К.) (5, 204). В Библии Путь по воле Бога — это «благость Божьего веления». Арсеньев же подменяет «Божье веление» своим желанием человеческого счастья, того, «что будет мило, хорошо, даст радость, то есть чувство любви — жизнь» (5, 204). Это искажение смысла библейской истории, свидетельствующее о том, что герой еще не постиг всей глубины Божественной истины, приведет его ко многим заблуждениям и ошибкам — к отступлению от Пути истинного.
«Пьеру все кто-то говорил: “Жизнь есть любовь… Любить жизнь — любить Бога…” Это кто-то и мне всегда говорит, и как люблю я все, даже вот эту дикую ночь! Я хочу видеть и любить весь мир, всю землю, всех Наташ и Марьянок, я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться» (5, 137), — говорит Арсеньев о своей любви к земному в период страстного желания юношеской самореализации и самоутверждения в жизни. Опасность и гибельность такой любви к земным ценностям замечательно показана Буниным с помощью символической картины неба, следующей за приведенными словами Арсеньева. Поскольку небо в пространстве романа является символом обители Бога и высших устремлений человека, то его существенные трансформации предупреждают об опасностях отхода от Пути истинного:
В кольце вокруг млечно-туманной луны было точно какое-то зловещее небесное знамение. Бледный, слегка склоненный набок лик ее все больше грустнел и туманился, на белесой мути неба, в вышине неслись и мешались, порой могильно закрывая этот лик, дымные, свинцовые, а то и совсем темные облака… C севера, из-за ревущего сада, поднималась черная туча, и дико пахло по ветру снегом (5, 137).
Однако в Арсеньеве постоянно живет смутное ощущение необходимости чего-то более значительного, чем самоутверждение и упоение счастьем земной жизни. Поэтому звучат в его душе слова умирающего князя Андрея Болконского: «Ничего нет в жизни, кроме ничтожества всего понятного мне, и величия чего-то непонятного, но важнейшего…» (5, 137). Осознание собственных ошибок усиливает огромную внутреннюю потребность к постижению сокровенной сущности Бога, «своего», «живого» Бога, обретенного в результате собственных жизненных испытаний и открытий, и ведет Арсеньева-юношу к дальнейшим экзистенциальным поискам. В этом смысл открытого финала романа.
Несмотря на продолжающиеся духовные искания героя, автор утверждает идею пути истинного как Пути к Богу и Пути по воле Бога уже в самом начале романа, в 1-ой главе 1-ой книги, играющей роль вступления, объясняющего причину, мотивировку и цель рассказа Арсеньева, и одновременно включающей своеобразный эпилог (см. об этом: [13]). Особое значение имеет последний абзац, поскольку это признание взрослого Арсеньева, человека, подводящего жизненные итоги и открывшего в жизни самое главное — «зов к небесному Граду»:
В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь заглохших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда — и недаром — царит какая-нибудь серая башня времен крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний, и петух на кресте, в небесах, высокий Господний глашатай, зовущий к небесному Граду (курсив мой. — Т. К .) (5, 8).
Путь по воле Бога утверждается автором романа как единственно верный, истинный путь человека в жизни.
Мотивы Пути к Богу и Пути по воле Бога играют ключевую роль для понимания исканий героя, ведущих авторских идей и выполняют в романе не только сюжетообразующую, но и смыслообразующую функцию.
Примечания
-
1 См. об этом, напр.: [1]; [2]; [10]; [11]; [12]; [13]; [14]; [15]; [16].
-
2 См. напр.: [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9]. В этом ряду необходимо назвать статьи сборников научных трудов «Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр», вышедших в журнале «Проблемы исторической поэтики» (Вып. 3–14. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ), а также статьи сборников научных трудов «Христианство и русская литература».
-
3 Бунин И. А. Собр. соч.: в 6 т. М.: Худож. лит., 1988. Т. 5. С. 207. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием номера тома и страницы в круглых скобках.
Список литературы Путь по воле бога в романе И. А. Бунина "Жизнь Арсеньева"
- Бердникова О. А. Реминисценции, цитаты и мотивы Псалтири в творчестве И. А. Бунина//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. -Вып. 10: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 7. -С. 315-328 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1458029841.pdf
- Бердникова О. А. «Так сладок сердцу Божий мир»: Творчество И. Бунина в контексте христианской духовной традиции. -Воронеж: Воронежская областная типография-издательство им. Е. А. Болховитинова, 2009. -272 с.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. -280 с.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. -М.: Кругь, 2004. -560 с.
- Есаулов И. А. Христианская традиция и художественное творчество//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. -Вып. 7: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 4. -С. 17-29 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2565
- Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. -Вып. 5: Евангельский текст в русской литературе ХVIII-ХХ веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 2. -С. 5-31 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2472
- Захаров В. Н. «Вечное Евангелие» в художественных хронотопах русской словесности//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. -Вып. 9: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 6. -С. 24-37 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429962964.pdf
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. -М.: Индрик, 2012. -264 с.
- Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы)//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. -Вып. 6: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 3. -С. 5-17 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2511
- Карпенко Г. Ю. Творчество И. А. Бунина и религиозное сознание рубежа веков. -Самара: Универс-групп, 2005. -68 с.
- Ковалева Т. Н. Библейский хронотоп в путевых поэмах И. А. Бунина «Тень Птицы»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. -Вып. 13: Актуальные аспекты. -С. 507-527 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1456403600.pdf
- Ковалева Т. Н. Типы художественного времени и их роль в романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. -Вып. 14. -С. 417-443 .
- Ковалева Т. Н. Моделирующая функция начала романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» (опыт семиотического исследования художественного времени-пространства)//Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. -2002. -№ 1. -С. 54-55.
- Пращерук Н. В. «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий»: традиции православия в жизни Алексея Арсеньева//Метафизика И. А. Бунина: cб. науч. тр., посвященный творчеству И. А. Бунина. -Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. -Вып. 2. -С. 7-15.
- Пронин А. А. Судьба цитат из христианских источников в книге И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева. Юность»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. -Вып. 5: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 2. -С. 505-514 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2554
- Пронин А. А. Евангельский «след» в цикле путевых рассказов И. А. Бунина «Тень Птицы» и поэма В. А. Жуковского «Агасфер»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. -Вып. 3. -С. 459-464 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2647
- Топоров В. Н. Пространство и текст//Текст: семантика и структура. -М.: Наука, 1983. -C. 227-284.