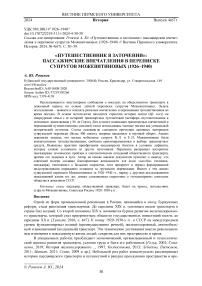«Путешественник в заточении»: пассажирские впечатления в переписке супругов Можевитиновых (1926–1940)
Автор: Рожков А.Ю.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История мобильности
Статья в выпуске: 4 (67), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются эпистолярные сообщения о поездках на общественном транспорте в довоенный период на основе личной переписки супругов Можевитиновых. Задача исследования – выявить и показать реальные впечатления и переживания путешественника во время поездок. В основе методологии находится стратегия истории жизни (life story) на микроуровне семьи с ее историей транспортных путешествий (метафора «путешественник в заточении» заимствована у М. де Серто). Для лучшего понимания транспортных впечатлений и переживаний путешественника ушедшей эпохи использованы частные письма как уникальный исторический источник. Статья основана на сплошном прочтении архивных материалов супружеской переписки (более 400 писем), впервые введенных в научный оборот. Анализ переписки показал, что весьма мобильные супруги В. Л. и Е. Н. Можевитиновы были компетентными путешественниками, свободно ориентирующимися в выборе транспортных средств. Выявлены практики приобретения пассажирских билетов в условиях дефицита, которые сложно установить из других источников. Переписка раскрывает восприятие пассажирами технических проблем и систематических опозданий общественного транспорта, причин его задержек в пути. Автор на основе анализа документов приходит к выводу, что советский модерн создавал благоприятные возможности для homo viatoribus (человека-пассажира), тяготевшего к большим скоростям, хотя приоритет в период форсированной индустриализации оправданно оставался за грузовыми перевозками. Вместе с тем анализ супружеской переписки Можевитиновых за 1926–1940 гг., наряду с другими исследованиями повседневной жизни тех лет, ломает сложившиеся стереотипы о «тоталитарном» советском обществе в довоенном СССР.
Пассажир, общественный транспорт, билет на проезд, путешествия, супруги Можевитиновы, Советская Россия, 1920‒1930-е гг.
Короткий адрес: https://sciup.org/147247300
IDR: 147247300 | УДК: 930:388.14”1926–1940“ | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-4-30-39
Текст научной статьи «Путешественник в заточении»: пассажирские впечатления в переписке супругов Можевитиновых (1926–1940)
Одной из форм промышленной революции в России, начавшейся в эпоху буржуазных реформ, стала революция транспортная. До середины XIX в. основным видом транспорта в стране был водный. Со второй половины XIX в. начинается бурное развитие железнодорожного транспорта, который стал приоритетным объектом государственных инвестиций вплоть до середины ХХ в. [ Гуансян , 2016, с. 647]. К концу 1920–1930-х гг. в СССР на междугороднем уровне функционировал водный (преимущественно речной), железнодорожный, автомобильный и авиационный (воздушный) транспорт. Эти технические достижения внесли революционные изменения в повседневную жизнь людей, сократив для них пространство и время.
В специальных работах преобладают экономический, организационный и технологический аспекты развития транспорта, условия труда и быта его работников [ Гольц , 2002; Гома-ненко , 2019; История железнодорожного…, 1997; Колбасникова , 2013; Лебедева , Пиджаков , 2011; Маткин , 2021; Сенин , 2009 и др.]. Небольшой ряд работ концептуально рассматривает историю пассажирского транспорта и путешествий в ракурсе преодоления пространства и вре-
мени и транспортной метафорики [ Козлов , 2005; Сатыбалдина , 2019; Harvey , 1990; Schivel-busch , 2014]. В этом ряду особое место занимает фундаментальный труд Ф. Б. Шенка, в котором впервые описаны новые способы организации пространства в эпоху паровых машин в России XIX в. [ Шенк , 2016]. Между тем историография пассажирских впечатлений и переживаний в довоенном СССР практически не разработана. Из обширной литературы о пассажирском транспорте трудно понять, как современные той эпохе транспортные средства воспринимались пассажирами, какими были качество их обслуживания, степень комфортабельности транспортных средств и доступности услуг, условия приобретения билетов, удобство вокзальных помещений и привокзальных территорий и т.д. Эти аспекты почти не описаны, за исключением нескольких работ, косвенно касающихся их в качестве «внешней» реконструкции «пассажирского» контекста [ Волков , Колбасникова , 2012; Попов , 2013]. Ближе всего к теме исследования относятся работы С. Е. Мишенина, рассматривающие более поздний период [ Мишенин , 2015 a ; Мишенин , 2015 b ].
Методология и источники
Методологически работа восходит к исследовательской стратегии истории жизни ( life history ) конкретной семьи в концептуальных рамках «пространственного поворота». Поскольку поездки (к родственникам, на учебу и отдых, в служебные командировки и т.д.) составляли значительную часть жизни Можевитиновых как заправских путешественников, их правомерно трактовать как часть повседневного жизненного мира супругов в социальном пространстве вокзала и пассажирского вагона, с практиками приобретения билетов, опытом планирования поездок и т.д.
Аналитические рамки исследования охватывают идеи А. Лефевра и М. де Серто о социальных практиках производства и использования пространства в повседневной жизни [ Лефевр , 2015; Серто , 2013]. У Лефевра нас привлекла гипотеза о том, что обыватель (путешественник) не занимает , а создает, производит пространство [ Лефевр , 2015, с. 172–173]. Архитектоника физического пространства, философски описанная Лефевром, имеет точки приземления к пространству вокзала, вагона, каюты. Здесь «места помечаются и замечаются», а время в поездке «распознается, но не отделяется от пространства» [ Лефевр , 2015, с. 177]. Отсюда и метафора «путешественник в заточении»: «Оставаясь неподвижным в вагоне, он смотрит, как мимо проносятся неподвижные вещи. <…> Внутри – неподвижность порядка. Здесь царствуют отдых и сон. Здесь нечего делать, можно лишь находиться в своем уме. <…> Как всегда, за вход надо было заплатить» [ Серто , 2013, с. 211]. Вместе с тем, по Лефевру, социальное пространство не является социализированным. Оно существует лишь для деятельности, «для передвижения… на корабле, по железной дороге, на самолете» [ Лефевр , 2015, с. 190–192]. Социально-пространственный подход Лефевра и Серто обогатился прикладными идеями Ф. Б. Шенка о территориальнопространственной мобильности пассажиров (макроуровень) и упорядочении их на вокзалах и в поездах посредством организации пространства (микроуровень) [ Шенк , 2016].
В отличие от работ по истории транспорта, написанных на обобщенных материалах, мы опираемся только на нарративы двух супругов-путешественников, которые описывали свои ощущения, переживания, впечатления при пересечении «пространства» и «места». Нас интересует не история транспорта или полная картина транспортных путешествий «как было на самом деле», а нарративные репрезентации двух homo viatoribus на основе личных впечатлений и переживаний. Как «следы» в истории, они не могут содержать полную информацию о событиях прошлого [ Буллер , 2022, с. 22].
Уникальный массив супружеского эпистолярия за указанный период составляет 418 писем (312 написаны В. Л. Можевитиновым и 106 его супругой). Письма по «дорожной» тематике преобладают в виде почтовых карточек. Большинство писем написаны чернилами, реже карандашом. Как правило, источники позволяют установить время и место написания.
Супруги-путешественники
Супруги Можевитиновы относятся к категории образованных людей, способных выразить на бумаге свои чувства и рефлексии при описании проживаемых событий. Образно говоря, это были кочующие этнографы-любители (особенно супруг), направлявшие свой внимательный взгляд «снизу» и «изнутри» на окружавший их мир.
Владимир Леонидович Можевитинов (1894–1971) родился в Риге в семье секретаря Рижского окружного суда, статского советника, прокурора Троицкого окружного суда. Окончил Троицкую гимназию и юридический факультет Императорского Петроградского университета, Всесоюзный заочный юридический институт (Ленинградский филиал). Преподавал в гимназиях и школах, занимался адвокатской практикой, работал в системе Краснодарского крайпотреб-союза, а также в госарбитраже при Краснодарском крайисполкоме, совмещая эту работу с преподаванием в техникуме и на курсах. С 1942 по 1946 г. служил членом военного трибунала войск НКВД Краснодарского края, инспектором Управления военных трибуналов войск НКВД СССР. После войны – прокурор по надзору за краевым судом по гражданским делам, преподаватель Кубанского сельхозинститута. С 1956 г. – на пенсии. С Е. Н. Скорняковой женат вторым браком. Первая жена – известная балерина Татьяна Гзовская (Исаченко) в 1925 г. эмигрировала в Германию вместе с их совместной дочерью Еленой.
Елена Николаевна Скорнякова (1898–197?) родилась в с. Михайловском Кубанской области в семье мещанина. Окончила Екатеринодарскую женскую гимназию с серебряной медалью и правом домашней наставницы по русскому языку. После революции работала счетчицей в областном статистическом бюро, сотрудником отдела охраны труда Областного совета профсоюзов, делопроизводителем Кубанского потребсоюза, счетоводом военного склада, управделами Института виноделия и виноградарства. С 1942 по 1947 г. состояла на военной службе делопроизводителем-машинисткой, секретарем судебных заседаний военного трибунала войск НКВД Краснодарского края. После 1947 г. управляла делами президиума Краевой коллегии адвокатов, заведовала канцелярией Кубанского сельхозинститута. С 1956 г. ‒ на пенсии.
Владимир Леонидович бывал в поездках намного чаще и с трудом обходился без общения с женой, поэтому его послания более многочисленны. В отличие от супруги, более сдержанной в переписке, письма Можевитинова нередко напоминают путевые заметки Карела Чапека: так же красочно и с тонким юмором он описывает в подробностях все происшествия и свои наблюдения. Вот одно из первых его описаний поездки из Кабардинки в Краснодар в августе 1927 г., когда он отважился ехать до станции на велосипеде: «Дорога до Шапсугской… была так дико испорчена минувшими дождями, что не только ехать, но и вести машину было очень трудно. <…> Кое как, чуть не ежеминутно накачивая шину, я ухитрился не опоздать к поезду, но переодеться не успел и на ужас курортных дам являл собой подобие выскочившего из шахты шофера грузовика. <...> Сознательные товарищи-железнодорожники приняли от меня в багаж в Аб[инской] велос[ипед] с насосом и сумкой со всеми принадлежностями, а выдали в Кр[аснодаре] без этого, но зато с целым рядом советов и сочувствий» (ГАКК. Ф. Р1706. Оп. 1. Д. 14. Л. 10–11).
Уезжая даже в ближнюю командировку, он обязательно с каждой крупной станции посылал жене почтовые карточки с краткими впечатлениями о поездке. Однако иногда послать сообщение не получалось: «.при 15-вагонном составе наш вагон 2-й от конца. Поэтому в Ростове не смог бросить открытку» (11.05.1939) (Там же. Д. 15. Л. 101). Тогда он находил нетривиальное решение: «В Курске бросал открытку не сам (вокзал далеко), а поручил мороженщице» (11.05.1939) (Там же. Л. 102).
Далее рассмотрим подробнее сообщения Можевитиновых о поездках по трем направлениям: транспортные средства, дорожные расписания с покупкой билетов, наблюдения внутри вагона. Для краткости будем обозначать сообщения супругов аббревиатурами В. Л. и Е. Н.
Вариативность транспортных средств
Основной вид транспорта, упоминавшийся в переписке, – железнодорожный, однако супруги прагматично рассматривали все варианты перемещений, включая водный, автомобильный и воздушный транспорт. В. Л. часто плавал на небольших пароходах по реке Кубань. В мае 1928 г. он пишет о поездке из Славянской в Краснодар: «Пароход, прокричав, что полагается, пополз мимо знакомых мест. Мне наскучили шалости ветра с моей газетой и моим пальто, и я спустился в “кают-компанию” - крохотное по вышине, но дост[аточно] обширное помещение где-то в животе у буксирчика. Неизменно стукнулся головой о бессовестно низкие балки и, вполголоса ругнувшись, испуганно осмотрелся вокруг» (Там же. Д. 14. Л. 35 об.). Месяц спустя он подтвердил статус знатока водного транспорта: «Я привычно скольжу по крутой лесенке вниз, привычно стукнул головой там, где всегда, и занял свое привычное место на диванчике. <...> “Карл Маркс” куда пригляднее “Коминтерна”. И палуба у него как-то чище и уютнее, и 2 класс лучше. Правда, отдельных кают нет, но зато вместо ужасных сеток - чистые белые скамьи, как в ж. д. вагоне 3 класса, много воздуху и света» (Там же. Л. 37-38 об.).
Водным транспортом тогда пользовались и как дополнительным средством, а не только как альтернативой другому. В начале октября 1936 г. В. Л. сообщает жене из Геленджика, что из Краснодара до Новороссийска доехал на поезде, а далее, «соблазнившись хор[ошей] погодой, не поехал на автобусе, а проехал на пристань и сел в 4 ч. на пароходик. Сразу по выходе из бухты… начало качать! Я крепился до белого кабардинского маяка, а за ним последовал примеру большинства и. лег в дрейф. Дрейфовал [спал. - А. Р. ] до самого Г[еленджи]ка!» (Там же. Л. 175).
Переписка супругов показывает, что для обывателя предвоенной поры уже недостаточно было даже скорых поездов, их взоры все чаще обращались на авиатранспорт. В августе 1940 г. Е. Н. писала мужу в Хосту: «Как решил ехать домой - морем до Новороссийска или поездом? Это ужасно - стоять в Армавире 14 часов! Я боюсь рекомендовать тебе самолет, хотя и очень заманчиво быть дома через 2–3 часа, считая поездку от аэродрома» (ГАКК. Ф. Р-1706. Оп. 1. Д. 29. Л. 84). Однако уже через месяц ее послание более оптимистично: «Сегодня из… Хосты (дома отдыха СКВО) прилетел один наш аспирант. Убоявшись 14-часового сидения в Армавире, он отправился самолетом. Очень доволен, говорит, что быстро привык к облакам и совсем не боялся» (Там же. Л. 91 об.). И все же риски полета воспринимались Е. Н. весьма серьезно. 20 сентября 1940 г. она советует мужу: «…лучше поезжай московским поездом, может быть скверная погода и тогда лететь самолетом очень неприятно и просто страшно. Один человек, много летавший, попал как-то в дождь, говорит, что весьма неприятно себя чувствовал» (Там же. Л. 97).
Расписание и билеты
Супружеская переписка Можевитиновых колоритно отображает две основные проблемы железнодорожного сообщения в довоенном СССР – систематические нарушения графика движения поездов и дефицит пассажирских билетов. Между тем важно отметить, что советской власти удалось соединить 11 часовых поясов в единое железнодорожное время, в отличие от царского правительства [ Шенк , 2016, с. 165–177].
Судя по переписке, супруги были очень практичными людьми в выстраивании логистики своих путешествий. Они тщательно изучали расписание движения транспорта, учитывали все детали предстоящего маршрута. Это было особенно важно при неизбежных тогда пересадках, а также в случае встречи приехавшего на вокзале. В. Л. пишет в июне 1936 г. из Ленинграда: «Узнал ход поезда: в М[оскву] он приходит в 12.08 дня и стоит (вагон) до 19.12, прицепляется к Москва-Минводы и идет уже не 23-м, а 27-м. в Туле - 22.54; напишу М.Н.1, м[ожет] б[ыть] захочет выехать на вокзал. Из Тихор[ецкой] прих[одит] в 1.18 ночи, а оттуда, если мне не соврали на горстанции - два поезда: в 4.15 и в 8.15. След[овательно], в Кр[аснодаре] я должен быть или часов в 7, или часов в 11» (ГАКК. Ф. Р-1706. Оп. 1. Д. 14. Л. 148).
-
В. Л. как более опытный путешественник детально инструктировал супругу перед каждой ее поездкой, подмечая иногда опечатки в путеводителях: «Лялюшка, по путеводителю № 55 идет из Кавк[азской] в Кр[асно]дар именно в 10.40 (а не в 12.40), как я тебе и написал. И только сейчас, проверив это расписание и сопоставив его с другим, я установил, что в нем ошибка : вместо “12.40” написано “10.40”!» (20.09.1936) (Там же. Л. 171).
17.09.1940 г. она пишет супругу в Хосту:
«Ты очень хорошо сделал, что заказал билет на Московский поезд, в Кавказской, да наверно и в Тихорецкой, пересадка легкая, только рассчитай, где тебе лучше пересаживаться
» (Там же. Д. 29. Л. 94). Спустя два дня она шлет В. Л. важные уточнения:
«Все самые подробные справки о скрещениях поездов, приход их и уход ты можешь навести в справочном бюро на Сочинском вокзале, а может и на Хостинском. Я бы тебе написала подробнее, да нет расписания этого года…»
(Там же. Л. 96).
Со временем Е. Н. приобрела достаточный опыт планирования поездок, и сама исполняла роль заправского диспетчера для мужа: «Сейчас смотрела расписание поездов. Из Л[енин]града в Москву почтовый № 71 приходит в 6 ч. 25 м. утра, а скорый № 25 - в 10 ч. 10 м. утра, т. е. в день приезда вечер можно использовать» (06.09.1935) (Там же. Д. 28. Л. 36 об.).
Впрочем, далеко не всегда график движения поездов соблюдался, что нарушало планы пассажиров. Отставание от графика было по разным причинам. Одну из них В. Л. указывает 13.03.1931 г.: «…в Ростове мы простояли много лишнего, так как не то прицепили не тот паровоз, не то нечего было прицепить, словом – стояли, а почему – сам деж[урный] по ст[анции] не знал. Сейчас… опаздываем на 5 часов, что считается хорошим тоном. <…> Доехали [в Москву] мы с опозданием на 7 ч.» (Там же. Д. 14. Л. 46 – 47). Были и другие технические проблемы: «Опаздываем мы часа на три – стояли, не доезжая Лисок – не могли взять подъема…» (В. Л., 20.01.1938) (Там же. Д. 15. Л. 42); «опаздываем примерно на час с самой Титаровки: заболел мягкий вагон и отцепляли его там» (В. Л., 13.12.1938) (Там же. Л. 73).
Нарушения графика движения были настолько частыми, что порой вызывали у супругов ироничную реакцию: «Вчера вечером, с опозданием на 3,5 часа (не товарный же это поезд, чтобы ему по расп[исанию] ходить, а скорый!) я приехал в Москву…» (В. Л., 19.01.1936) (Там же. Д. 14. Л. 118). В подобные перипетии попадала и Е. Н.: «Благополучно доехала до Кавказской с опозданием на 7 часов. <…> В Армавире сказали, что мы будем стоять 12 часов. <…> Потом сжалились над нами и отправили через 8 часов…» (19.09.1936) (Там же. Д. 28. Л. 63).
Ключевая задача при планировании поездки – приобрести билеты. Недостаток поездов, перегруженность летнего расписания, относительный рост благосостояния населения, а в начале 1930-х гг. массовый голод в ряде регионов страны являлись основными причинами дефицита билетов. Почти в каждом письме супругов о поездках встречаются такие строки: «Сидячую плацкарту до Москвы [из Ленинграда. – А. Р .] можно достать без хлопот за 2–6 дней на станции здесь на Большом. Так я и сделаю; за лежачей плацкартой охотиться не буду, а залезу на 3-й этаж и отосплюсь к Москве…» (В. Л., 09.09.1935) (Там же. Д. 14. Л. 97). При этом существовали льготные билеты: «Билеты только общие, плацкарты – лишь орденоносцам и тяжело больным. Посадка, говорят, жестокая…» (В. Л., 23.09.1940) (Там же. Д. 15. Л. 186).
Супружеская переписка выявила любопытные практики приобретения билетов, которые сложно установить из других источников. При традиционной продаже билетов на вокзалах («станциях») нередко приходилось отстоять в очереди от нескольких часов до суток и более: «Потом поехал на горстанцию; потерял пару часов и 7 рублей, и взял себе билет не до Москвы, а до Кр[аснода]ра, через Харьков (с пересадкой в Тихор[ецкой]), но с плацк[артой] только до Москвы. Получил, т[аким] о[бразом], только преимущество транзитника. Думаю, что с Кур[ского] вокзала можно будет уехать без затруднений» (В. Л., 14.06.1938) (Там же. Л. 71 об.).
В письме от 25.06.1937 г. В. Л. красочно описывает эпопею с ночной перекличкой в очереди за билетами в Ленинграде: «Вчера, на перекличке в 8 ч. вечера я стал уже 62-м, а на перекличке в 12 ч. ночи – 61-м. Следующая перекличка назначалась на… 5 ч. утра, когда нет еще ни трамваев, ни автобусов. <…> После переклички получаю № 60. В 7 понемногу пускают наверх в залу. На Сочи, Тбилиси и Кислов[одск] работают 2 кассы; в каждой только по 29 мест! Я получаю билет до Красн[одара] с плацкартой до Тихорецкой за три билета до конца, когда кроме этих трех билетов остается только 20–30 сидячих билетов до Москвы» (Там же. Л. 38–39).
В подобных случаях не обходилось без уловок, к которым порой был вынужден прибегнуть даже интеллигентный обыватель: «Тогда я пошел на хитрость: узрев в списке читавшей фамилии дамы пару фамилий попроще и полегче запоминаемых и их номера, я запомнил их, после чего возмущенно заявил далее: “Спрячьте списки, а то фамилии видно”. После этого, когда подошел заполненный мной номер, и никто не отозвался, я крикнул, якобы замешкавшись, прочитанную фамилию, и получил № 360 с чем-то. Сейчас же после этого я поехал домой, сегодня к 7 часам утра встал в очередь, к 8 ч. пустили в кассу, и я пятым (московских касс штук 5) полу- чил нижнее спальное место (до Москвы) на 16 веч[ера]. Такой кутерьмы, как в прошлом году, еще нет, т. к. не разъезжаются еще студенты. Но все же очереди большие, и чтобы получить билет дальнего следования, нужно походить дня три» (В. Л., 11.06.1938) (Там же. Л. 68 об.).
В середине 1930-х гг. одной из наиболее удобных практик приобретения билетов в крупных городах был предварительный заказ их на предприятиях или по телефону. Это не всегда срабатывало, поскольку существовал лимит. Сроки заказа также могли увеличиваться в зависимости от спроса. Е. Н. пишет мужу в Ленинград 16.03.1931 г.: «…билеты ж[елезно]дорож[ные] в Москве очень трудно достать, нужно заказывать дней за 8–10. Имей это в виду, а то ты хотел и на обратном пути сделать остановку; как бы тебе не остаться без плацкарта!» (Там же. Д. 28. Л. 20 об.). В. Л. радостно сообщает супруге из Ленинграда 04.06.1936 г.: «Сегодня заказал билет на скорый сочинский (с перес[адкой] в Тихорецкой) в ночь на 14-е, без перес[адки] в Москве, с постелью, причем заказал… по телефону. Билет будет доставлен на дом» (Там же. Д. 14. Л. 144). Однако не все было так гладко: «Насчет заказа по телефону билетов: они принимаются только по 2 №№ телефонов, и поэтому понятно, что я вертел вертушку не менее 20 раз, пока попал на незанятый телефон. Доставка стоила что-то рубля два…» (В. Л., 06.06.1936) (Там же. Л. 146). А 17 июня 1937 г. В. Л. сообщает, что эту услугу отменили: «Билеты сейчас по телефону уже не заказывают; нужно заказывать в кассах гор[одской] ст[анции] за 6 дней» (Там же. Д. 15. Л. 26).
Между тем существовали и иные практики покупки билетов в обход очередей. Один из вариантов – приобретение через носильщика, но не без издержек: «…заказал носильщику билет на скорый кисловодский. <…> На мое место (на котором я ехал до Кавк[азской]) было продано 2 плацк[арты]…» (В. Л., 10.05.1939) (Там же. Л. 99). Другим способом было приобретение билетов непосредственно в поезде при посадке: «Билет (плацк[артный]) на ленинградский поезд купил, как полагается, в вагоне…» (В. Л., 14.06.1937) (Там же. Л. 22). Этот билет, как и купленный у носильщика, надо было компостировать: «Билеты в Кавказской компостируют так: по залу ходит контролер и ставит на билетах штамп с № вагона и № поезда» (Е. Н., 19.09.1936) (Там же. Д. 28. Л. 62). Однако уже 12 мая 1939 г. В. Л. пишет из Ленинграда: «С билетами было трудно. В вагоне не компостировали. Носильщики не брались…» (Там же. Д. 15. Л. 103).
Пассажир в вагоне
Наиболее интересными представляются наблюдения путешествующих супругов внутри вагона. Их письма полны колоритных описаний портретов попутчиков, интерьера вагона, происшествий в поезде. Чаще всего в сообщениях присутствует лаконичный отчет о собственных переживаниях и впечатлениях, напоминающий дневниковые записи: «После армавирской жары и гонки в прожаренном и пропыленном вагоне скорого поезда, к[ото]рый от Арм[авира] до Тих[орецка] останавливается только раз, в Кавказской, я проспал, прибыв сюда, 13 часов подряд» (В. Л., 28.06.1929) (Там же. Д. 14. Л. 43); «Доехал прекрасно; спал хорошо; вагоны чистые, светлые и теплые, много своб[одных] мест» (В. Л., 14.01.1936) (Там же. Л. 115).
Сообщения от В. Л., как правило, были оптимистичными, видимо, чтобы не огорчать супругу: « Еду прекрасно. Вагон некур[ящий], место хорошее; чисто; салфеточки на столах и нет опоздания. Пассажиров немного. <…> Сейчас буду пить чай, принес кипятку » (В. Л., 04.05.1936) (Там же. Л. 135). Встречаются и сдержанные послания: «Ехать мне было не особенно приятно: компания неинтересная и последнее купе у дверей» (В. Л., 31.05.1938) (Там же. Д. 15. Л. 54).
Пассажир в дальней дороге, как правило, хочет расслабиться, отдохнуть от мирских забот. Монотонный стук колес способствует этому: «Дорога – апофеоз бездельничанья – не только в книгу, но и в газету не смотрится. Чайник – корзинка – подушка, это, так сказать, дорожный треугольник» (В. Л., 13.03.1931) (Там же. Д. 14. Л. 47); «… едем прекрасно. Отсыпаюсь вовсю, а в свободное от этой работы время ем или читаю политэкономию » (В. Л., 30.05.1936) (Там же. Л. 139).
Комфорт в поездке обеспечивался многими факторами, важнейшими из которых были питание, сон, условия вагона и попутчики. В довоенных пассажирских вагонах особенно остро ощущалась температура внутри: «Было неудобно и холодно. В М[алой] Вишере я не выдержал, побежал на вокзал за кип[ятком] (несм[отря] на 3 часа ночи) и выпил чуть не целый чайник сладкого горячего чаю, после чего отогрелся» (В. Л., 18.03.1931) (Там же. Л. 51 об.). Другие сообщения рисуют довольно пеструю картину: «Ехать плохо: жарко и пыльно. Никакие занавесочки и простыни не помогают» (В. Л., 21.07.1936) (Там же. Л. 153). Иногда и летом в вагоне было холодно: «Ночью было очень холодно, и без одеяла я мерз бы» (В. Л., 15.06.1937) (Там же. Д. 15. Л. 23).
Сон в дороге напрямую зависел от класса вагона и категории пассажирского места: «Плацкарты у меня не было; до 9 ч. веч[ера] (поезд ушел из М[осквы] в 2.30) я лежал и немного спал “в очередь” на чужом месте, а с 9 до 6.30 утра – сидел» (В. Л., 18.03.1931) (Там же. Д. 14. Л. 51). Нередко качество сна зависело от габаритов спального места: «Спал я хорошо – боковушки в этом вагоне шире, чем в обычных. Сейчас (в Ростове) перешел на № 21 (нижнее прямое)» (В. Л., 13.06.1937) (Там же Д. 15. Л. 20). Людям высокого роста, к которым относился В.Л., было особенно сложно: «Взял постель и сплю, насколько это возможно при моем росте» (В. Л., 09.1940) (Там же. Л. 165). Зная эту проблему супруга, Е. Н. в шутку писала ему: «И когда это будут все вагоны такие, чтобы маленькому человечку можно было хорошенько выспаться!» (06.1938) (Там же. Д. 29. Л. 28).
Вопрос питания в дальнем путешествии особенно актуален для пассажира. В начале 1930-х гг. в письмах появляется все больше признаков надвигающихся проблем с продуктами, а также нерешенной проблемы беспризорности: «В вагоне разговоры все больше о продуктах. Под соседним вагоном в ящике едет “пассажир” – мальчуган лет 15 » (В. Л., 13.03.1931) (Там же. Д. 14. Л. 47). К концу десятилетия сообщения стали более оптимистичными: «Ем с аппетитом, но всего, что ты мне положила, конечно, съесть не могу. Кипяток приношу в кружке или беру у проводника» (В. Л., 20.01.1938) (Там же. Д. 15. Л. 42).
Интересные попутчики скрашивали длительное путешествие. 30 мая 1936 г. В. Л. шутливо рапортует жене по пути в Москву: «Соседи хорошие. В Каменске сошла симп[атичная] докторша; сейчас нас четверо: я, музыкант, его жена и его контрабас. Через отделение едет типус с мужем и собакой; все время спит. <…> В Ростове мы были в 5 ч. утра, но, несмотря на столь ранний час, на перроне были в полной боевой готовности тележки с закуской, вином, водкой и прочими необходимыми в пути вещами. <…> Некоторые пассажиры покупают в эти [вагонные. – А. Р. ] графины пива, надо же освежаться…» (Там же. Д. 14. Л. 139). Судя по письмам, В. Л. был человеком коммуникабельным и любознательным: «В Рост[ове] заходил ко мне… Д. Н.2, беседовали. Дорогой ведем споры о новых паровозах, об автосцепке и прочих ж. д. новинках» (07.03.1936) (Там же. Л. 132). 21 июля 1936 г. он сообщал жене: «Ехал со мной машинист-орденоносец, его премировали желтеньким патефоном, как наш, и я от Лихой до Лисок слушал музыку» (Там же. Л. 153).
Сообщалось иногда и о криминальных происшествиях. Утром 6 мая 1936 г. В. Л. пишет из Москвы: «Где-то около Рязани, в час ночи у меня сперли шляпу (она лежала на 3-й полке). Однако вор был быстро проводницей обнаружен, а мною побит» (Там же. Л. 137); «Не обошлось, конечно, без того, что у одной из пассажирок стащили чемодан» (В. Л., 20.01.1938) (Там же. Д. 15. Л. 42).
Выводы
Железнодорожный транспорт в раннесоветском обществе продолжал «путешествие в современность», начатое в прошлом веке. Записки образованных и компетентных путешественников, например, таких как супруги Можевитиновы, в том числе женские заметки, являются уникальным источником о пространственной мобильности и дорожных практиках в довоенном СССР. Они дают нам возможность выявить реальные отношения путешествующего советского гражданина и государства в лице Наркомата путей сообщения, а также взаимоотношения между обывателями в качестве вагонных попутчиков и томившихся у билетных касс потенциальных пассажиров. Советский модерн создавал сравнительно большие возможности для путешественника, впечатления и переживания которого, а также его ожидания высокоскоростных по- ездов и самолетов достоверно отражены в приведенной супружеской переписке. В сравнении с дореволюционным периодом, демократичность, доступность железнодорожных перевозок, несомненно, выросли, однако социальная дифференциация между городом и деревней, пассажирами разных классов все еще оставалась. Какими бы развитыми ни были в то время транспортные коммуникации и пассажирские услуги, приоритет в период форсированной индустриализации оправданно оставался за грузовыми перевозками. Тем не менее из переписки супругов Можеви-тиновых предстает совсем иная жизнь в раннем советском обществе, по сравнению с довольно мрачными трактовками ее в (пост)перестроечных учебниках истории и публицистике. Стоит согласиться с Ф. Б. Шенком, что «только наблюдая социальные практики путешествий на поезде… можно измерить глубокие трансформации социальных пространств, которые страна испытала в эпоху индустриализированного пассажирского сообщения» [Шенк, 2016, с. 291].
Список литературы «Путешественник в заточении»: пассажирские впечатления в переписке супругов Можевитиновых (1926–1940)
- Буллер А. Следы и слои времени (со статьями Райнхарта Козеллека). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. 208 с.
- Волков М.В., Колбасникова М.А. История зарождения и развития пассажирского транспорта в России // Вестник транспорта. 2012. № 5. С. 33–36.
- Гольц Г.А. Культура и экономика России за три века, XVIII–XX вв. Т. 1. Менталитет, транспорт, информация (прошлое, настоящее, будущее). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 536 с.
- Гоманенко О.А. Реорганизация работы водного транспорта СССР во второй половине 1930-х гг. (на примере волжских речных пароходств) // Каспийский регион: политика, экономика, культура. Отечественная история. 2019. № 2. С. 36–42.
- Гуансян Ч. Транспорт и экономическое развитие России в XIX – начале ХХ века // Историко-экономические исследования. 2016. Т. 17, № 4. С. 645–696.
- История железнодорожного транспорта России и Советского Союза / под общ. ред. В.Е. Павлова, М.М. Уздина. Т. 2. 1917–1945. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т путей сообщения: Иван Федоров, 1997. 416 с.
- Козлов С. Крушение поезда: транспортная метафорика Макса Вебера // Новое литературное обозрение. 2005. № 1. С. 7–60.
- Колбасникова М.А. Становление и развитие речного транспорта России (краткий исторический очерк) // Вестник транспорта. 2013. № 9. С. 36–44.
- Лебедева М.Ю., Пиджаков А.Ю. Воздушный транспорт СССР в довоенные годы // Научный вестник МГТУ ГА. 2011. № 170. С. 55–59.
- Лефевр А. Производство пространства / пер. с фр. М.: Strelka Press, 2015. 432 с.
- Маткин А.А. Вехи истории камского судоходства и судостроения в советский период (1917–1947 гг.) // Река Кама в исторических судьбах города Перми: материалы Всерос. междисципли-нар. науч.-практ. конф., Пермь, 11 ноября 2021 г. / под ред. Г.А. Янковской, А.А. Маткина. Пермь: Изд-во Е.Г. Трегубовой, 2021. С. 98–114.
- Мишенин С.Е. Организация комфортности пассажиров в полосе железных дорог Западной Сибири в 1965–1991 гг. // Вестник Омск. ун-та. Исторические науки. 2015a. № 2. С. 144–147.
- Мишенин С.Е. Организация питания пассажиров в полосе железных дорог Западной Сибири в 1965–1991 гг. // Вестник Омск. ун-та. Исторические науки. 2015b. № 3. С. 36–40.
- Попов В.Ж. Значение железнодорожного транспорта в повседневной жизни городского населения Украины в 1917–1920 гг. // Социально-гуманитарный вестник. 2013. Вып. 15. С. 16–26.
- Сатыбалдина Д.К. Путешествия и социальное пространство Европы в рефлексии интеллектуалов межвоенного периода // Общество: философия, история, культура. 2019. № 10. С. 27–33.
- Сенин А.С. Железнодорожный транспорт советской России в первые годы восстановительного периода // Экономическая история. Ежегодник. 2009. М.: РОССПЭН, 2009. С. 509–576.
- Серто М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2013. 330 с.
- Шенк Ф.Б. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России в век железных дорог. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 584 с.
- Harvey D. Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination // Annals of the As-sociation of American Geographers. 1990. Vol. 80, no. 3. P. 418‒434.
- Schivelbusch W. The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19th Century. Oaklad: University California Press, 2014. 219 p.