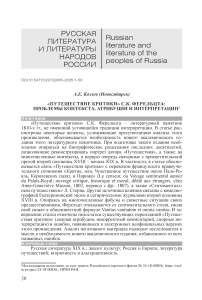«Путешествие критики» С. К. Ферельцта: проблемы контекста, атрибуции и интерпретации
Автор: Козлов А.Е.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
«Путешествие критики» С.К. Ферельцта - литературный памятник 1810-х гг., не имеющий устоявшейся традиции интерпретации. В статье рассмотрены некоторые аспекты, усложняющие пресуппозицию анализа этого произведения, обосновывается необходимость нового академического издания этого литературного памятника. При подготовке такого издания необходимо опираться на биографические разыскания последних десятилетий, позволяющие реконструировать портрет автора «Путешествия», а также на многочисленные контексты, в первую очередь связанные с просветительской прозой второй половины XVIII - начала XIX в. В частности, в статье обосновывается связь «Путешествия критики» с переводом французского нравоучительного сочинения «Критик, или, Чувственное путешествие около Пале Рояль, Королевских палат, в Париже» (Le censeur, ou Voyage sentimental autour du Palais Royal; ouvrage critique, historique et moral, dédié aux étrangers, chez Anne Geneviève Masson, 1802, перевод с фр.: 1807), а также «Сентиментальным путешествием» Л. Стерна. Другие источники влияния связаны с комедиографией Екатерининской эпохи и сатирическими журналами второй половины XVIII в. Опираясь на многочисленные фабулы и сюжетные ситуации своих предшественников, Ферельцт отказывается от сентиментального стиля, сводя свой сюжет к общеизвестной формуле Vanitas vanitatum et omnia vanitas. В завершении статьи отмечены недостатки существующих переизданий «Путешествия критики» (ложная атрибуция, некорректный комментарий, спорные интерпретации) и ошибки, появившиеся в электронных неофициальных версиях этого произведения. Анализ негативного материала подводит исследователя к мысли о необходимости нового академического издания, избавленного от всех названных ошибок.
Русская литература xix в, диалог культур, Россия и европа, литература путешествий, вторичность и альтернативность
Короткий адрес: https://sciup.org/149147795
IDR: 149147795 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-50
Текст научной статьи «Путешествие критики» С. К. Ферельцта: проблемы контекста, атрибуции и интерпретации
Russian literature of the 19th century; dialogue of cultures; Russia and Europe; travel-writing; secondary and alternative.
В литературном процессе начала XIX в. функционирование некоторых анонимных текстов можно уподобить действиям свободных электронов: появившиеся вне каких-либо периодических изданий, не встретившие какой-либо значительной реакции со стороны критики и читательского сообщества, они при самом своем появлении пополняют архив культурной памяти. В то же время в таких текстах нередко находит отражение традиция и определяется движение литературы по магистральной линии. Как писал об этом специфическом явлении Ю.М. Лотман, «одновременно с поисками новых идейно-художественных форм <…> не умирал читательский интерес к прозе Вольтера, Руссо, Рейналя, Радищева, русских сатирических журналов XVIII века, молодого Крылова и многих других писателей <…>. Это необходимо учитывать при любой попытке восстановить картину взаимоотношений читателя и книги в интересующие нас годы» [Лотман 1961, 3]. К таким «фарватерам», предска- зывающим «китовые мели» первой трети XIX в. [Шкловский 1990], относится «Путешествие критики» С. фон Ф., изданное в 1818 г.
Судя по цензурному разрешению, подписанному А.Ф. Мерзляковым, работа над произведением была завершена к 1810 г., однако оно появилось в печати спустя десять лет – только в 1818 г. Вероятно, причиной такой задержки стали как личные обстоятельства (в первую очередь, финансовые), так и политические: военная кампания 1812–1815 гг. Вероятно, по причине такого опоздания книга не стала событием для критики и читателя: в романтическую эпоху произведение, представляющее ретроспективу стиля и сюжетной организации второй половины XVIII в., казалось анахронизмом.
Выставленный на обложке книги псевдоним дал повод для множественной атрибуции: так, первые исследователи приписывали произведение Д.И. Фонвизину или его племяннику С.П. Фонвизину, включали автора в круг дворянской фронды. По замечанию А.В. Кокорева, которому принадлежит приоритетное право введения памятника в научный оборот, «автор “Путешествия критики” стремится продолжить изображение Радищевым жизни и быта феодально-крепостнического общества России начала XIX века, и это в некоторой степени ему удалось…» [Кокорев 1951, 8]. Альтернативный вариант атрибуции предложил А. Кузьменко, назвав автором «Путешествия…» В.Т. Нарежного [Кузьменко 1967]. Многочисленные общие места в портретных характеристиках героев и общность фабульных ситуаций, обнаруженная Кузьменко у С. фон Ф. и автора «Российского Жилблаза», позволяли ассоциировать произведение с культурой миргородской шляхты, демонстрируя единство обличительной позиции столичных и провинциальных просветителей Российской империи.
Однако оба этих предположения были опровергнуты Г.П. Макогоненко, вслед за В. Орловым и М.А. Шнеерсон, установившим авторство произведения и атрибутировав его С.К. Ферельцту. Макогоненко назвал Ферельцта «учеником русских просветителей XVIII в., причем, безусловно, в большей мере учеником Фонвизина и Новикова, чем Радищева, хотя Радищевское “Путешествие” он отлично знал» [Макогоненко 1956, 719]. В одно время с исследованием Макогоненко в антологии «Русские очерки» [Костелянец 1956] под редакцией Б.О. Костелянца был опубликован фрагмент произведения (в частности, II, III и IV, XVI письма); о бесспорности установленного авторства писал и Ю.М. Лотман [Лотман 1961]. Уже в 1980-е гг. разыскания продолжил Г.Д. Овчинников, справедливо указав, что автор текста – провинциальный учитель немецкого происхождения Савелий Карлович Ферельцт [Овчинников 1989]. Представленные атрибуции – истинные и ложные – создают принципиально разные пресуппозиции: в первом случае «Путешествие…» включается в орбиту других произведений, написанных автором «Недоросля», в том числе, «Стародум, или друг честных людей». Во втором – истинном, можно судить о Ферельцте как просвещенном читателе своей эпохи, сумевшем обобщить многочисленные сюжеты в едином повествовании. Особый интерес представляет действительное сходство способов организации частных писем Д.И. Фонвизина, «Путешествия из Петербурга в Москву» и «Путешествия критики», что позволяет увидеть в Фонвизине, Ферельцте и Радищеве современников, обладающих сходным литературным опытом. При этом с большой вероятностью Ферельцт не был знаком ни с приватной перепиской Фонвизина, ни с запрещенным сочинением Радищева.
Ближайшим текстом, оказавшим влияние на поэтику «Путешествия», по-видимому, стал анонимный перевод «Критик, или, Чувственное путеше- ствие около Пале-Рояль, Королевских палат, в Париже», изданный в вольной типографии Федора Любия в 1807 г. Автор произведения Антуан Жозеф де Рони демонстрировал, как палаты Пале-Рояля сделались «жертвенником страстей», и «учинились храмом роскоши, или лучше сказать, разврата». В серии глав, представленных в эпистолярной форме, рассказывая о театрах, кофейнях, торговых залах, трактирах, игорных и публичных домах, путешественник предупреждал чужестранцев об опасностях современного Парижа.
|
Le censeur, ou Voyage sentimental autour du Palais-Royal; ouvrage critique, historique et moral, dédié aux étrangers, chez Anne-Geneviève Masson, 1802 |
Критик или Чувственное путешествие около Пале-Ройяль, королевских палат, в Париже. Сочинение критическое, историческое и нравственное, 1807 |
|
Ou vous ! habitans des contrées lointaines, vous étrangers, que la curiosité, le désœuvrement, le commerce, ou vos affaires appellent à Paris, apprenez, dès le jour de votre arrivée, à vous méfier de ce dangereux Palais, universellement reconnu pour le foyer des vices et de la corruption, sachez vous préserver de tous les écueils qui vous y environnent; sachez qu’il n’est pas un plaisir, un amusement, innocent en apparence, qui ne cache dans son sein le germe du poison le plus subtil ; et qu’enfin ce séjour perfide et séducteur fut avant vous le théâtre de la ruine de plusieurs milliers d’imprudens attirés dans ce lieu de délices par le charme invincible des jouissan-o ces et de la volupté. |
О вы, обитатели стран отдаленных! Вы, чужестранцы, которых любопытство, праздность, торговля или другие дела ваши привлекли в Париж! Учитесь со дня приезда вашего не доверять сим опасным палатам, кои всеми признаны за убежище пороков и разврата; учитесь избегать сетей там расставленных; знайте, что там нет ни одной забавы, ни одного удовольствия, по наружности невинного, которое бы ни скрывало в себе тончайшего яду; знайте, что сие вероломное и опасное место было прежде вас еще театром гибели неблагоразумных, привлеченных в сей остров Калипсы приманкою удовольствий и забав! |
Можно заметить некоторые вольности, допущенные российским переводчиком, в частности, обращение к аллегории грота Калипсо, которого не было в оригинальном тексте (ранее это сравнение использовал Н.М. Карамзин в «Письмах русского путешественника»). Отличается и пафос: изысканная сатира оригинального путеводителя в переводе превращается в назидательно-просветительский памфлет. Нельзя исключать, что перевод произведения 1802 г., выполненный в 1807 г., культивировал недоверчивое отношение к французской культуре, одновременно показывая разрушительные последствия каких-либо революционных потрясений. В то же время, если Антуан Жозеф де Рони, вслед за Ретифом-де ла Бретонном, пытался оградить провинциальных соотечественников от соблазнов столичного города, отечественный переводчик использовал оригинальный текст как свидетельство всеобщего падения нравов, антифранцузский памфлет.
Одна из существенных особенностей перевода – замена слова Le censeur словом Критик . Антуан Жозеф де Рони был апологетом цензуры, считая необходимым контроль печати и других аспектов публичной сферы. Слово «критик» не несет в себе институционального значения, превращая судью общественных нравов, наделенного несомненными полномочиями, во фланера, описывающего пороки, но не претендующего на их исправление [Институты литературы 2023]. В то же время выбор номинации для обозначения повествовательной инстанции, вероятно, стал ключевым для Ферельцта.
Особенность этой инстанции была отмечена Б.О. Костелянцем: «…усло-вен не только адресат – некий “друг”, но, что гораздо существеннее, условным, почти никак не конкретизированным, выступает и повествователь. Само название книги свидетельствует об этом. <…> Путешествует негодующая, но вместе с тем и безличная критика» [Костелянец 1956, 15]. Действительно, двойное название произведения – «Путешествие критики, или Письма одного путешественника, описывающего другу своему разные пороки, которых большею частию сам был очевидным свидетелем» – обнаруживает возможность двух разных оптик: абстрактной (в духе де Рони) и конкретизированной (ориентированной на Руссо и других сентименталистов). Такую же двойственность обнаруживает и выбранный эпиграф: Quid rides? Mutātо nomĭne de te fabŭla nar-rātur, действительно близкий к радищевской сентенции «премени имя, повесть о тебе вещает» [Лео 2015]. Как известно, героем сатиры Горация является Тантал, жаждущий утоления жажды и голода, что позволяет провести параллель с взыскующим истины путешественником.
Следуя эпистолярной традиции, писатель называет автором писем своего друга, подробно описывая его намерения в предисловии.
Друг мой никогда не имел желания быть страдальцем учености, или, просто сказать, автором. Писавши ко мне письма сии, он не предполагал, что из них со временем составится порядочной величины книжка и, что всего страннее, книжка печатная. Да и я со своей стороны никогда не решился бы выдать их в свет, естьли бы не убедили меня к тому друзья мои. Они уверяли меня, что сочинение сие не безделица; что оно назидательно для нравов, и потому очень полезно [Путешествие критики 1818].
Это предисловие (дано без пагинации) выполнено в манере английской фельетонистики и в частности Дж. Свифта. Характерна диалектика назидания и развлечения, свойственная большей части сатирической словесности и журналистики второй половины XVIII в. и переходящая потом в предисловия русской прозы первой половины XIX в.
Друг мой писал их не с тем, чтобы злословить других и не с тем, чтобы делать другим нравоучения. Короче сказать, он писал только для моего удовольствия; а я вздумал поделиться сим удовольствием с другими [Путешествие критики 1818].
По замечанию А. Кокорева, «описанные в «Путешествии…» факты, явления, не вызывают сомнения, относительно их реальности» [Кокорев 1950, I]. С этим тезисом соглашается и Г.Д. Овчинников: «Основная литературно-педагогическая деятельность Савелия Ферельцта прошла во Владимирской губернии. Несомненно, что в основу «Путешествия критики» легли наблюдения и впечатления о пребывании писателя в 1792–1802 гг. домашним учителем “во многих дворянских домах”, что и дало ему богатый материал для сатирического изображения провинциального общества» [Овчинников 1989, 284]. Однако уникальность опыта провинциального учителя нивелировалась литературными моделями и образцами разного уровня сложности.
Очевидно, произведение является данью «многоречивой» романной традиции, в первую очередь связанной с европейской литературой (напоминая о романах Д. Дефо, Д. Дидро, Р. Де ла Бретонна, Дж. Свифта и Г. Филдинга). Определяющую роль в организации нарратива произведения играет «Сентиментальное путешествие» Л. Стерна.
Во-первых, замена реального имени криптонимом «С. фон Ф.» обращает коммуникацию с читателем в изощренную игру, ближайшим аналогом которой становится выбор недостоверного повествователя Йорика в «Сентиментальном путешествии». Во-вторых, специфична география путешествия между двумя абстрактными топосами М. и П. Несмотря на очевидную традицию обозначения центральных российских городов, в письмах Ферельцта такое обозначение условно. Так, согласно реконструкции Овчинникова, криптоним М. – Муром, П. – Псков. Иными словами, оба этих пространства близки к литературному городу N, определение которого находится сугубо в компетенции читателя [Милюгина, Строганов 2014]. Такая кумулятивная организация, отменяющая динамику действительного путешествия, близка к экспозиции «Сентиментального путешествия», особенно глав, происходящих в Кале (Calais). В-третьих, некоторые эпизоды «Путешествия критики» приближаются к стернианским анекдотам, представленным не только на страницах «Сентиментального путешествия», но и «Жизни и мнений Тристрама Шенди».
Таким образом, в «Путешествии критики» отразилась не только обличительная просветительская традиция, но и реинтерпретация стернианского сентиментализма. Результаты этой реинтерпретации очевидны при сравнении стиля и композиции произведения с путешествиями Н.М. Карамзина, В.В. Измайлова, П.И. Шаликова.
Наконец я вникал и в самые нравы сельских жителей, желая найти в них ту простоту и невинность, которую воспевают стихотворцы . Не льзя сказать, чтоб сии добрый качества были совершенно потеряны; но к сожалению и самые малые остатки их – остатки истиннаго величия человеческаго во многих обезображены, или, так сказать, подавлены грубостию и невежеством в такой же точно степени, как у жителей большаго света – учтив-ством и ловкостию. Человек везде одинаков, везде малыя совершенства его помрачены множеством слабостей и недостатков.
На месте зелено-бархатных лугов увидел я просто зеленые луга. Это заставило меня выбросить из головы все описания, ка-кия только я знал. Пусть сама природа напечатлевает образ свой на сердце моем, сказал я. – Для чего изображать нам ее в бархат- ных, атласных и прочих уборах? Она их никогда не носит; свой собственный и ей одной приличный наряд служит ей всегдашним украшением [Путешествие критики 1818, 5–6].
Как и его современник В.Т. Нарежный (отсюда замеченные А. Кузьменко сходства [Кузьменко 1967]), Ферельцт обращается к преодолению скомпрометированного эпигонами Карамзина сентиментального стиля. По наблюдению А. Шёнле, «Ферельцт уже в заглавии своего сочинения <…> заявляет о намерении развенчать реальность, которую прежние путешественники старались представить в засахаренном виде» [Шёнле 2004, 19]. Заметим, что развенчание, дискредитация действительности предполагает либо поиск нового альтернативного языка, либо архаизацию – возвращение к предыдущему этапу развития словесности.
Для Ферельцта характерна именно вторая стратегия. Педагог по основной сфере деятельности, он не был известен при жизни как писатель, а основные его опыты, оставшиеся не опубликованными, были связаны с драматургией (в частности, оставшаяся неизданной пьеса «Сидероа и Жиневия, или Изобличенная невинность»). Вероятно, поэтому в сюжетах «Путешествия критики» отразилось большинство сцен, характерных для комедиографии екатерининской эпохи. О тяготении к театру говорит номинация большинства писем, рельефные мизансцены и развернутые диалоги, представляющие мелкопоместный быт в измерении просветительского театра: Жена двух живых мужей, или Кум женился на куме. Богаты ли они были?, Конокрад, или краденыя лошади дороже купленых, Ревнивость или не ревнивость: что лучше, Хороший эконом, или белый торгующий белыми . В завершении XII письма, путешественник замечает:
Здесь по городу носится слух, что одни неизвестный писец выпустил в свет драму под заглавием “Вероломная жена или сила корыстолюбия”. Говорят, что он содержит подробное описание сего удивительного брака. Но я не мог ее здесь отыскать. Прошу тебя, любезный друг, ежели можно, доставить мне ее.
Некоторые утверждают, что ее сочинял сам муж Зелии, от котораго она отреклась. Однакож он сам мне сказывал, что он и не читывал ее никогда. Следовательно напрасно называют его сочинителем такой драммы, которая очень мало зделает ему чести [Путешествие критики 1818, 144].
В этой обрисовке Ферельцт отчасти сближается с Антуаном Жозефом де Рони. Однако если автор обличительного путешествия сравнивал современный Париж с Вавилоном и преисподней, Ферельцт избегает сильных метафор, находя основной материал в сатирической и обличительной литературе XVIII в.: многие письма представляют практически буквальную цитацию статей из «Трутня» и «Живописца» Н.И. Новикова, «Сатирического вестника» Н.И. Страхова, «Почты духов» И.А. Крылова. Особенно сильным оказывается влияние «Английской прогулки» и «Путешествия из И* в Т*», появившихся на страницах «Живописца».
Следуя просветительскому канону, «Путешествие критики» изображает типы, предельно обобщенные и восходящие к известным порокам: отставного недоросля Митрофана, глупца Простакова, хищного помещика Гура Филатова, городничего Вральмана и др. Об этом свидетельствуют выведенные характеры и аллегорическая «выпуклость» каждой сюжетной ситуации. Как в авантюрном романе XVIII в., вырастающем из фацеции, сцена частных пороков становится универсальной, пополняя картину пороков целого поколения [Козлов 2016].
Обладая значительной металитературностью, «Путешествие критики» постоянно задействует инстанцию читателя. Особенно рельефно это обращение к адресату проявляется в последнем письме, где вслед за Вольтером и Дидро, путешественник демонстрирует срединность своей позиции:
Сверх сего приметил я, что большая часть из них (страстей и пороков – А.К. ) в подлиннике несравненно сквернее и гаже, нежели те, какие изображаются в комедиях и трагедиях. <…> Филантроп , взирая на сие конечное повреждение естества человеческого, непременно пролил бы источники филантропических слез, а Мизантроп со всею адскою злобою рассмеялся; но я, не принадлежа ни к тому, ни к другому ордену, делал только тебе коротенькие поучения из предложения: должно избегать пороков [Путешествие критики 1818, 303].
Заметим, что в последнем предложении обнажается назидательная составляющая писем, сближающая абстрактного путешественника с автором – уездным педагогом и просветителем. Как сын немецкого барона и одновременно подданный Российской империи, Ферельцт, вероятно, чувствовал диссонансы окружающего мира, однако для их выражения он обращался к ранее выработанным в литературе моделям.
Сделанные наблюдения позволяют поставить вопрос о статусе и функции рассмотренного текста. В своей поздней работе Д.С. Лихачев использовал не устоявшееся в научном дискурсе обозначение литературных страт как отдельностей , «иерархически резко отличающихся между собой по размерам и выстраивающихся в литературе, входящих друг в друга» [Лихачев 1991, 8]. Эту идею, нашедшую подкрепление в современных социологических исследованиях, иллюстрирует и рассмотренное выше произведение. Такие отдельности, существующие вне журнального или театрального поля эпохи, становятся семантическим медиатором, придающим предшествующей культурной традиции принципиально иное звучание.
Статус «Путешествия критики» свидетельствует о парадоксальной ситуации, связанной с интерпретацией рассматриваемого произведения и его современным бытованием. Несмотря на своевременность издания 1951 г., можно констатировать, что ложная атрибуция, пространный и искажающий историко-культурные контексты комментарий, произвольность выводов и интерпретаций обнаруживают неудовлетворительное качество существующего текста. Одновременно возникают искажения при сканировании и распознавании текста методом OCR: так, например, на сайте Библиотеки Мошкова (az.lib.ru) произведение получает новое название: «Путешествие критика», что влияет на восприятие содержания книги и ее интерпретативную сферу. Иными словами, назрела необходимость в академическом издании этого произведения с учетом всех корректных интерпретаций, осуществленных с 1951 г. по настоящее время.