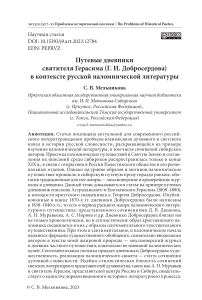Путевые дневники святителя Герасима (Г. И. Добросердова) в контексте русской паломнической литературы
Автор: Мельникова С.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной для современного российского литературоведения проблеме взаимосвязи духовного и светского начал в истории русской словесности, раскрывающейся на примере изучения паломнической литературы, в том числе сочинений сибирских авторов. Практика паломнических путешествий в Святую Землю и составления их описаний среди сибиряков распространилась только в конце XIX в., в связи с открытием в России Палестинского общества и его региональных отделов. Однако на уровне образов и мотивов паломническое путешествие проникло в сибирскую путевую прозу гораздо раньше, обогатив традиционные для нее жанры - миссионерские и архиерейские журналы и дневники. Данный тезис доказывается в статье на примере путевых дневников епископа Астраханского и Енотаевского Герасима (1809-1880), в молодости иркутского священника о. Георгия Добросердова. Опубликованные в конце 1870-х гг. дневники Добросердова были написаны в 1830-1840-х гг., то есть в период расцвета жанра паломнического литературного путешествия, представленного сочинениями Д. В. Дашкова, А. Н. Муравьева, А. С. Норова и др. Дневники Добросердова близки им не только хронологически, но и стилистически: образ христианского паломника соединяется в них с образом сентиментального чувствительного путешественника. При этом и сентиментальное, и паломническое начала являются формами художественного обобщения, сознательно вводимыми автором в тексты иной жанровой природы - миссионерский журнал и дневник частного путешествия, изначально не имевший паломнических целей. Сентиментальная поэтика придает дневникам Добросердова художественность, реализация паломнического сюжета - статус сочинения духовной словесности. Идейно-стилистическая близость сочинений светских литераторов и представителей духовенства, таких как А. Н. Муравьев и святитель Герасим, представителей центра России и Сибири, свидетельствует о единстве дореволюционного историко-литературного процесса.
Христианская традиция, светская и духовная словесность, паломническая литература, контекст, сибирь, православное духовенство, епископ герасим, добросердов
Короткий адрес: https://sciup.org/147241447
IDR: 147241447 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12784
Текст научной статьи Путевые дневники святителя Герасима (Г. И. Добросердова) в контексте русской паломнической литературы
00000000
Н а рубеже XX–XXI вв. в отечественном литературоведении формируется новая концепция русской литературы, учитывающая ее христианскую сущность и характер [Захаров], ранее, в силу известных исторических причин, фактически вынесенные за скобки исследовательской парадигмы. В этом контексте происходит, с одной стороны, переосмысление русской классики с точки зрения христианской традиции [Есаулов, 2005], с другой, возвращение утраченного — самой духовной словесности, забытых писательских имен и текстов, что в итоге должно привести к восстановлению единства национального историко-литературного процесса, понимаемого как синтез, а не противоречие двух начал, духовного и светского.
Примером такого синтеза может служить паломническая литература, причем на протяжении всей истории своего развития — от древнерусских хождений и переходных форм XVI — начала XVIII в. (хождения Василия Гагары, Арсения Суханова, Иоанна Лукьянова, Ипполита Вишенского, Василия Григоровича-Барского и др.) до литературных паломнических путешествий XIХ в. («Русские поклонники в Иерусалиме» Д. В. Дашкова, «Путешествие ко Святым местам в 1830 г.» и «Путешествие по святым местам русским» А. Н. Муравьева, «Путешествие по Святой Земле» А. С. Норова, «Путешествие в Кирилло-Белозерский монастырь» С. П. Шевырева, «Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме» архим. Антонина (Капустина) и др.).
Изучение паломнической литературы началось в XIX в. (статьи и рецензии Е. Бутовича-Бутовского, И. И. Срезневского, архим. Леонида (Кавелина), С. В. Арсеньева, П. В. Безобразова,
А. Н. Пыпина и др.)1, и уже в то время «критика обратилась к осмыслению художественного феномена религиозно-духовной прозы в составе "светской" литературы» [Александрова-Осокина: 41].
Советское литературоведение (исследования Т. Роболи, В. П. Адриановой-Перетц, В. В. Данилова, Н. И. Прокофьева)2 внесло существенный вклад в изучение жанрово-стилевой природы хождений, рассматривая их как древнерусский «очерковый жанр» [Прокофьев], сыгравший при своей трансформации в путешествие важную роль в развитии форм литературного повествования. Однако вопрос о христианской природе текстов фактически не затрагивался, сочинения «реакционных» писателей-паломников XVIII–XIX вв. не изучались.
Современные исследователи [Лотман], [Гуминский, 2009, 2017], [Решетова], [Александрова-Осокина] в большинстве своем возвращаются к вопросу о специфике хождений как текстов именно духовной словесности, исследуя, например, семиотику отраженного в них сакрального пространства в его взаимосвязи со Священным Писанием, Литургией, иконой, храмом. При этом особое внимание уделяется переходным и литературным формам, на примере которых может быть поставлена проблема взаимодействия духовной и светской традиции в процессе характерного и для других жанров «"перевода" существующей православной культурной модели <...> на "язык" Нового времени» [Есаулов, 2019: 30].
Актуальной исследовательской задачей в связи с этим является расширение круга источников — выявление и публикация неизвестных паломнических сочинений с привлечением текстов, в том числе провинциальных, в частности сибирских авторов.
Хождения, написанные сибиряками в XVII–XVIII вв., однако, нам не известны. Святая Земля была недоступна им ввиду объективной географической удаленности, трудно преодолимой в тех исторических условиях. И только на рубеже XIX–XX вв., в связи с открытием в 1882 г. Императорского православного палестинского общества и его региональных (Томского, Тобольского, Енисейского, Читинского и Якутского) отделов, сибирские паломники стали обычным явлением в Палестине, а их записки появились на страницах «епархиальных ведомостей»3. Общее количество паломнических сочинений сибиряков, выявленных на сегодняшний момент исследователями, не превышает двух десятков сочинений. Очевидно, что вопрос требует дальнейшей проработки и обращения к рукописям.
Но если учитывать не только тексты, которые отражают реальную паломническую практику, а бытование универсального паломнического сюжета в сибирской духовной словесности , то круг сочинений будет несомненно более широким, а идейноэстетические связи с паломнической традицией более глубокими. На уровне образов и мотивов паломническое путешествие проникает в сибирскую путевую прозу гораздо раньше конца XIX в. и обогащает традиционные для нее жанры — миссионерские и архиерейские журналы и дневники. Связи с христианской паломнической литературой прослеживаются во многих травелогах сибирского духовенства: «Путевых записках» архиепископа Нила (Н. Ф. Исаковича), «Путешествии по Лене» епископа Иакова (И. П. Домского), путевых дневниках якутских миссионеров А. И. Аргентова и Д. В. Хитрова, впоследствии епископа Дионисия и некоторых др.
В настоящей статье мы обратимся к двум «сибирским» путевым дневникам иркутского священника о. Георгия (Егора) Добросердова (1809–1880), впоследствии епископа Симбирского, а затем Астраханского Герасима, прославленного в лике сибирских святых. Дневники были написаны в 1831 и 1841 гг. — период расцвета паломнического литературного путешествия, представленного сочинениями Д. В. Дашкова, А. Н. Муравьева, А. С. Норова и других писателей. Однако впервые опубликованы дневники Добросердова только в 1879–1880-х гг.4; в 2019 г. автором настоящей статьи подготовлено их комментированное переиздание5.
Епископ Герасим был известным духовным писателем своего времени, богословом, агиографом, проповедником6. При этом его сочинения имели не только религиозно-духовное, но и литературное значение. Еще современники отмечали, что «слог его дневников приближается к слогу если не Карамзина, то, во всяком случае, к слогу старых сентиментальных писателей вроде, например, кн. Шаликова»7. Соединение элементов сентиментальной поэтики с элементами христианского паломничества составляет стилевое своеобразие и первых «сибирских» дневников святителя.
В дневнике 1831 г. описывается первая миссионерская поездка Георгия Добросердова, тогда еще ученика высшего отделения Иркутской духовной семинарии. По приказу архиепископа Добросердов должен был составить журнал своего путешествия, но автор изначально ориентирован на создание нечто большего, чем служебный отчет. Выход за рамки официально-делового дискурса обеспечивается за счет двух форм художественного обобщения — сентиментального путешествия и паломнического странствия, которые, в свою очередь, задают два уровня прочтения текста.
Миссионерский маршрут пролегает по родным для автора местам. Встреча с семьей описывается на фоне сельских пейзажей, вызывающих у автобиографического героя теплое ностальгическое чувство; в тексте появляются характерные для поэтики сентиментализма мотивы сердечной близости, дружбы, воспоминаний, слез, образы сельского кладбища, садика с цветами, хижины8. Образ повествователя рисуется как человека естественного, от природы доброго, эмоционального, глубоко эмпатичного путешественника-созерцателя.
И в то же время поездка имеет внутреннюю цель, которая не может быть передана средствами сентиментальной поэтики. Автобиографический герой решился на монашеский постриг и теперь едет, чтобы испросить благословение на этот шаг у своих родителей. Эта цель сообщает всему путешествию экзистенциальное содержание, приближающее его к духовному странничеству в том богословском значении, о котором писал прп. Иоанн в «Лествице»9 — как «отлучение от всего с тем намерением, чтобы сделать мысль свою неразлучною с Богом»10.
Добросердов не цитирует в дневнике «Лествицу», но ее мотивы обнаруживаются в сюжете — например, мотив плача. Как бы ни было тяжело, юноша выдерживает слезы родных, следуя совету прп. Иоанна: «Не склоняйся на слезы родителей и друзей; в противном случае будешь вечно плакать»11. И сам образ чувствительного путешественника трансформируется в образ странника, «любителя и делателя непрестанного плача»12.
Образ Святой Земли формировался в сознании паломников еще до начала реального путешествия, будучи сконструирован на основе Священного Писания, богослужебного опыта и представлений о храме. Средневековый паломник, «представляя себе весь мир как символическое отображение иного мира, раскрывал, расшифровывал эти видимые символы и, всматриваясь в них, угадывал в них непреходящую реальность божественного» [Киприан (Керн): 86].
В отличие от Палестины, места, по которым путешествует семинарист Добросердов, не являются сакральными, а стоит немного отойти от русского селения с храмом — и вовсе попадаешь в бурятскую языческую степь. Но всегда остается возможность внутреннего ухода — в идеальное представление о времени и пространстве, наполненное библейскими воспоминаниями. Именно это более всего объединяет его опыт с паломническим.
Чем меньше сакральных мест встречает автобиографический герой, тем сильнее проявляется в нем стремление к сакрализации изначально профанного, языческого пространства — обнаружения в нем следов присутствия Творца: «Помолившись Господу, мы отправились в село Тайтурку и дивились на пути, при виде дивной панорамы, чудному персту Всевышнего, который, поставив горы в мерилех и холмы в весе (Ис., 40:12), все привел в безмерное устройство» (57). «Поднявшись с Голу-мети на Угор, я видел стаи журавлей и гусей, летящих от зимы в более теплую полосу — на покой. Конечно, думал я, рано или поздно придет и моя зима; рано или поздно и мне должно будет перелетать воздушные пространства — мытарства <…> Достигну ли до желанного покоя блаженной пристани или, может быть, застигнутый бурею страстей, я и при самом береге жизни сей погрязну в пучине отчаяния <…> Прими мя, Господи, туда, где нет греха и горя, где правда и блаженство процветают, лобызаются!‥» (69) — упоминание воздушных мытарств, отсылающее к святоотеческому учению («Слову о исходе души» Св. Кирилла Александрийского, сочинениям Св. Иоанна Златоуста, Св. Макария Великого и др.), метафизически преобразует мотив пути, соотнося его с последним странствием души на небо. Природный ландшафт, восприятие которого задается вертикалью, уподобляется храмовому пространству. Тем самым Добросердов как автор дневника оказывается причастен «практике человека в создании сакральных пространств», формирующих для него самого среду общения с высшим, духовным миром, или иеротопии [Лидов: 11].
Сибирские миссионеры, хотя и путешествовали не по Святой Земле, тем не менее были постоянно погружены в воспоминания о ней, поскольку основное содержание катехизаторских бесед с язычниками составляли пересказы (или парафразы) ветхозаветной истории и Евангельских событий. Совершаемые же богослужения обеспечивали вовлеченность в литургическое переживание времени: на пятидесяти с небольшим страницах дневников Добросердова Литургия упоминается 23 раза и является одним из основных временных маркеров: «слушал Литургию», «во время Литургии», «после Литургии». С паломниками автора сближает и упоминание молитвы Иисусовой13, которую «в виде завета заповедал» ему творить архиепископ Ириней (68).
Все это помогает автору и его автобиографическому герою, совершая миссионерскую поездку, подниматься и по ступеням собственной духовной лествицы — от осознания своей греховности и борьбы с нею через перемену ума (покаяние), смирение и молитву к стяжанию Святого Духа:
«Отслушав утреню, я занимался до литургии чтением <…> святоотеческих книг, <…> а после литургии весь день провел с самим собою и сожалел о бесплодной весне моей жизни <…>. Душа моя до того разскорбелась, что я нигде и ни в чем не находил для себя покоя <…> искал я помощи у престола Царя-Царей <…>. И мир душевный и спокойствие совести возвестили мне о руке Господней, простертой на подъятие меня из тьмы греховной, я со слезами уже радования и благодарности лобызал сию спасительну ю десницу…» (64).
Именно такая перемена составляет конечную цель паломнического странствия. Таким образом, дневник 1831 г. допускает три уровня прочтения: служебный отчет о миссионерской поездке, личное сентиментальное путешествие и паломническое странствие.
В дневнике 1841 г., озаглавленном «дневник одного из вдовых священников», описывается путь из Иркутска в Санкт-Петербург, куда о. Георгий Добросердов отправляется с целью поступить в духовную академию. Необходимо пояснить, что высказанное в первом дневнике намерение принять постриг в 1831 г. не осуществилось: промыслом Божьим будущему святителю было предначертано пройти путь супруга, отца и священника. Брак был сколь счастливым, столь и недолгим — раннее вдовство окончательно определило монашеский выбор. Уезжая из Иркутска, о. Георгий прощается с могилой «друга-жены», «малюткой-сыном», оставленным на попечение родных, друзьями, паствой:
«Ввиду вольно-невольной разлуки со всем дорогим для моего сердца в Иркутске невыносимо тяжелые думы невольно вызывали на глаза мои слезы, и я, подобно дитяти, плакал» (74).
Прощание с земной, чувственной жизнью и подготовка к принятию монашеского обета, к жизни сугубо духовной, составляет внутренний сюжет дневника, который, применительно к развитию образа автобиографического героя, может быть описан как превращение сентиментального путешественника в христианского паломника.
Хотя поездка в Петербург изначально не имела паломнической цели, будучи частным путешествием, переездом из провинции в столицу, по мере продвижения из Сибири в центр России «плотность» сакрального ландшафта постоянно возрастает — соприкосновение со святынями и приводит автора к внутреннему преображению.
Еще в Сибири о. Георгий встречается со знаменитым святым отшельником Даниилом (Ачинским); в Казани посещает воинский Спасский собор и Богородицкий женский монастырь, в Москве — Кремль с Благовещенским и Успенскими соборами, Заиконоспасский, Чудов и Донской монастыри. При этом сакральный хронотоп противопоставляется профанному, например, в контрастном описании храмов Нижнего Новгорода и знаменитой Макарьевской ярмарки как «столпотворения Вавилонского» (97). Однако дорожная суета не мешает общему молитвенному настроению путника:
«Утрами, после молитвы теплой, я читал послания ап. Павла или Псалтирь <…> Вечерами я засыпал спокойно, будучи уверен с пророком Давидом, что Господь хранит странников (пришельцев). Путям безвестным, с людьми незнакомыми я доверялся с полною надеждою…» (90) — и это доверие к миру и предание себя Божьему промыслу, безусловно, объединяет автора с древними паломниками.
По своему сюжету дневник св. Герасима близок путешествию А. Н. Муравьева (см., напр.: [Хохлова]). Особенно много общего в описании центральной точки паломнического маршрута — Троице-Сергиевой Лавры и Вифании, посещение которых Добросер-дов называет «самым лучшим моментом странствия» (99).
В рассказе о Лавре Добросердов много внимания уделяет внешним описаниям и фиксации собственных чувств — «молитвенного восторга», «чувства благоговения», «сознательной грусти» и проч., что сближает его с Муравьевым и в то же время отличает от автора древнерусских хождений, стремящегося к объективному, как можно более беспристрастному повествованию о святынях. Но сентиментальная стилистика в сочинениях обоих духовных писателей XIX в. создает лишь необходимую эмоциональную основу, позволяет показать обостренное ощущение окружающего мира, связь с действительностью, затем же обязательно преодолевается, выводится на новый мировоззренческий уровень.
Подводя итог своему пребыванию в Лавре, Муравьев пишет о том, что «под крылом Преподобного обрел я мир душевный»14. Аналогичную мысль высказывает и автобиографический герой о. Герасима, однако свое состояние он выражает через бо лее сложный, основанный на библейской символике образ:
«Подобно горлице Ноевой, во время потопа, долго душа моя не находила покоя себе по причине глубинных страстей, живущих в ней; но здесь, сложив свои крылья под сень св. и живон[ачальной] Троицы, она опочила» (99–100).
И в этом соединении — сентиментальной стилистики и библейской образности — видится не противоречие церковной и светской литературных традиций, но, напротив, их движение навстречу друг другу и взаимное обогащение.
Путевая проза сибирского духовенства XIX в., рассмотренная нами на примере дневников святителя Герасима (Добро-сердова), таким образом, демонстрирует многогранность и гибкость и в то же время универсальность феномена паломничества, а также дает прекрасный пример сохранения каноничных христианских смыслов в литературных формах Нового времени.
Сделанные выводы, в свою очередь, могут служить историческим контекстом для понимания тех трансформаций, которые паломническая литература претерпевает в настоящее время. Она, безусловно, возрождается, и этот процесс идет в двух направлениях. Прежде всего, в традиционных границах жанра литературного паломничества, хотя и модернизированного. Примером могут служить сочинения В. Н. Крупина («Крестный ход», «Незакатный свет. Записки паломника»), В. Г. Распутина («На Афоне») и других писателей (сборник 2004 г. «Путешествие в Палестину») [Любомудров]. Но также можно говорить и о паломническом сюжете или мотивах паломничества в современной художественной литературе [Проскурина]. Основанием для подобного переноса, даже при отсутствии собственно паломнического содержания как обозрения святынь, являются те универсальные мотивы духовного странствия, которые мы стремились выявить на примере сочинений святителя Герасима.
Список литературы Путевые дневники святителя Герасима (Г. И. Добросердова) в контексте русской паломнической литературы
- Александрова-Осокина О. Н. Паломническая проза 1800–1860-х годов: священное пространство, история человек. М.: Флинта: Наука, 2015. 432 c.
- Валитов А. А., Кибардина А. А. Воспоминания сибирских паломников о Палестине конца XIX — начала ХХ веков как исторический источник // Научный диалог. 2019. № 4. С. 213–224 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nauka-dialog.ru/jour/article/view/1205 (01.05.2023). DOI: 10.24224/2227-1295-2019-4-213-224
- Гуминский В. М. Паломническая традиция в русской литературе путешествий // Теория Традиции: христианство и русская словесность / науч. ред., сост., предисл. Г. В. Мосалева. Ижевск: Удмуртский ун-т, 2009. С. 59–98.
- Гуминский В. М. Русская паломническая литература между Востоком и Западом // Литературоведческий журнал. 2017. № 42. С. 168–244.
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 5–11 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (01.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2370
- Есаулов И. А. Христианская традиция и художественное творчество // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. Вып. 7. С. 17–28 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2565 (06.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2005.2565
- Есаулов И. А. Парафраз и становление новой русской литературы (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 2. С. 30–66 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1561976111.pdf (01.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2019.6262
- Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М.: Паломник, 1996. 449 с.
- Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Индрик, 2006. С. 9–32.
- Лотман Ю. М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2001. С. 230–233.
- Любомудров А. М. Традиция христианского паломничества в современной русской словесности // Теория Традиции: христианство и русская словесность / науч. ред., сост., предисл. Г. В. Мосалева. Ижевск: Удмуртский ун-т, 2009. С. 306–325.
- Мельникова С. В. Духовная проза Сибири: дневники архиепископа Герасима (Г. И. Добросердова) // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 346. С. 29–34 [Электронный ресурс]. URL: http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=859&article_id=5922 (07.05.2023).
- Прокофьев Н. И. Хожение: путешествие и литературный жанр // Книга хожений: записки русских путешественников XII–XV вв. М.: Сов. Россия, 1984. С. 5–22.
- Проскурина Е. Н. Паломничество в русской светской литературе: к проблеме трансформации сюжета // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. Вып. 7. С. 67–85 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2583 (07.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2005.2583
- Решетова А. А. Древнерусская паломническая литература XVI–XVII веков (история и поэтика). Рязань: Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2006. 764 с.
- Хохлова Н. А. А. Н. Муравьев — литератор. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. 244 с.
- Цысь В. В., Цысь О. П. Паломничество жителей Западной Сибири в Палестину в конце XIX — начале XX в. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 2: История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 6 (61). С. 73–90 [Электронный ресурс]. URL: https://periodical.pstgu.ru/ru/series/issue/2/61/article/2721 (07.05.2023). DOI: 10.15382/sturII201461.73-90