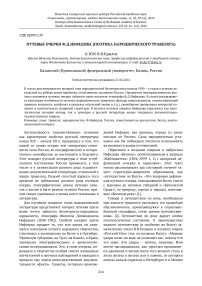Путевые очерки Ф. Д. Нефедова (поэтика народнического травелога)
Автор: Крылов Вячеслав Николаевич
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 1-2 т.18, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается поздний этап народнической беллетристики начала 1890 - х годов в аспекте актуальной на рубеже веков проблемы углубленного познания России. Предметом непосредственного анализа становятся путевые очерки забытого ныне писателя-этнографа Ф.Д.Нефедова. В статье раскрываются некоторые особенности поэтики народнического травелога (фигура повествователя, композиционный принцип контраста, конфликт в пределах отдельной сцены и т.д.), своеобразие проявления авторской позиции и синтетичность жанровой структуры. В поэтике путевых очерков Нефедова отразились как идеологическая позиция автора, так и зреющие в русской литературе новые тенденции документально-художественных жанров.
Травелог, народничество, ф.нефедов, Россия, повествователь-рассказчик, волга, композиционный контраст
Короткий адрес: https://sciup.org/148102381
IDR: 148102381 | УДК: 82(091):39
Текст научной статьи Путевые очерки Ф. Д. Нефедова (поэтика народнического травелога)
Экстенсивность художественного сознания как характерное свойство русской литературы конца XIX – начала XX в. проявилась в том, что одной из самых острых тем литературы становится тема России, ее географического и исторического своеобразия, ее настоящего и будущего. Этот поворот русской литературы к теме углубленного постижения России проявился, в том числе и в активизации разного рода художественно-документальной литературы, относимой к жанру травелога. Редкий «толстый журнал» того времени не публиковал разного рода путевые очерки, этнографические циклы путевых заметок о жизни и быте разных уголков России, причем самых удаленных и менее всего освоенных в литературе.
Для изучения позднего этапа народнической литературы представляет интерес путевая проза ныне почти забытого беллетриста-народника, журналиста, этнографа Филиппа Диомидовича Нефедова (1838–1902). Особый колорит прозе Нефедова придает то, что всю жизнь он занимался изучением устного народного творчества, участвовал в экспедициях по Волге и в Оренбург, Уфимскую губернию, на Урал, на Кавказ, в Крым, занимался этнографическими и археологическими исследованиями. Это, в свою очередь, порождало в творчестве особый синтез жизненных впечатлений и научных наблюдений и выводов и придало ему черты непосредственной документальности «факта». Сюжеты, ситуации произве- дений Нефедов, как правило, черпал из своих поездок по России. Сама народническая установка как бы побуждала писателя использовать возможности жанра путешествий.
Обратимся к поздним очеркам и наброскам Нефедова «Весною», опубликованным в журнале «Наблюдатель» (1894, №№ 1, 2) с авторской дефиницией «очерки и зарисовки». Этот текст нужно рассматривать как составной элемент такого структурно-жанрового образования, как «путешествие по Волге». «Это жанровая дефиниция путевого очерка, описывающего Волгу (часто с верховья до низовых губерний и «Букеевской Орды»), ее природу, города и народы, населяющие «Великую реку» [1].
Говоря о путешествии по реке, необходимо при анализе травелога учитывать его природную обусловленность, проявляющуюся в социальнобытовой специфике, точке зрения путешественника» [2]. Путешествие по реке дарует особое психологическое состояние. О преимуществах водного путешествия (и особенно по Волге) замечательно писал В.В.Розанов в путевом очерке «Русский Нил» (так он называл Волгу): «Мерные удары колес по воде не утомляют вас, потому что это ново. Эти удары – мягкие, влажные. Ими почти наслаждаешься, как простым проявлением движения и жизни после того вечного стука и лязга железа о железо или о камень, от которого никуда нельзя скрыться в Петербурге и в Москве и который истощает и надрывает всяческое терпение» [3].
Пространственно-временные рамки сюжета путевых заметок Нефедова определены в соответствии с жанром травелога маршрутом : перед читателем развернуто описание путешествия вниз по Волге – от Нижнего Новгорода до Самары. Все действие происходит на пароходе «Левиафан», путешественники не выходят в города, где останавливается пароход, а наблюдают за изменениями с палубы парохода или из окна каюты. Состав попутчиков меняется, кто-то выходит на своей станции, но появляются новые лица. Основное место уделено описанию быта и времяпрепровождения пассажиров разных классов, а также их разговоров в пути.
Первый ключевой мотив можно назвать предвосхищением путешествия – это описание того подъема, которое испытывает рассказчик перед поездкой. В путевых очерках Нефедова, как правило, это дано в лирической форме как радостная возможность отойти хоть на время от будней столичной жизни и оказаться в мире природы, свободы, непосредственного ощущения жизни.
Автор в путевых очерках Нефедова не обнаруживает себя как путешественник, непосредственный участник событий, многочисленных бесед пассажиров. Авторская позиция выражается прежде всего через композиционный контраст. Это контраст социальный, контраст здоровья, веселья и печали, болезни, мужского и женского мира. Сам способ изображения пути, находящихся на корабле различных типов пассажиров, их реакций на увиденное по берегам Волги, характер диалогов и пространных монологов приобретает явную социальную злободневность. Сюжет разворачивается параллельно, мы оказываемся то среди пассажиров первого и второго, то третьего класса. Этот прием параллелизма позволяет подчеркнуть, выделить авторскую позицию. Это попытка показать два совершенно разных мира. Так, контраст народного мира и привилегированного сословия передается через различие тематики их разговоров. В первом классе ведутся разговоры о воспитании, образовании, искусстве, о современном положении дворян. Совсем другие разговоры – среди пассажиров третьего класса. Здесь говорят о погодных приметах, о засушливой весне, о том, что «коли дождей не выпадет, хлебушка ничего не уродится» [4], а также о том, почему «столько начальства развелось» (№1, с. 140). А еще все выслушивают рассказ старика о «знамениях времени» перед пришествием антихриста» (№1, с. 140) (с народным «сюжетом» связаны в очерке Нефедова многочисленные этнографические элементы).
Разделяя общие почти для всех народников просветительские и моральные ценности Руссо, «веру в добродетель простых людей, его мысль, что причина морального разложения общественных институтов – их изношенность, его острое недоверие ко всем формам умствования, к интеллектуалам, специалистам, всем самоизо-лировавшимся кружкам и фракциям» [5], Нефедов дает описание радостного солнечного утра (вблизи Симбирска), реки и окружающего ландшафта. Но если третий класс уже не спит, там пробуждаются вместе с первыми лучами солнца, то первый класс еще «почивает» до десяти часов, а Казань, например, «проспал».
Среди попутчиков есть те, кто пытается приблизиться к народу, как-то ему «послужить». Эта сюжетная линия занимает особое место в структуре текста. На наш взгляд, именно в ней находит воплощение центральная идея народничества, идея социальной справедливости и социального равенства, значимая и на позднем его этапе.
Среди пассажиров «Левиафана» выделяется Анна Николаевна, богатая женщина-врач. В ее речах заметна народническая риторика. Она отправилась на восток, чтобы принести пользу переселенцам, среди которых много больных и голодающих. Своей собеседнице Соничке она признается, что хочет посвятить свою жизнь этим «несчастным» людям. Реализует ли она свою мечту, остается неизвестным: очерк завершается прибытием в Самару. Но по ходу путешествия читатель становится свидетелем попыток интеллигенции прислушаться к народу, как-то понять его. И Соничка, и Анна Николаевна оказываются в числе слушательниц в третьем классе, где рассказываются народные легенды о Степане Разине. Вот итоговый вывод, который делает Анна Николаевна: «Народ живет своею жизнью, у него особое мировоззрение, свои идеалы и верования. Мы чужды народу, он сторонится нас и остается по-прежнему сфинксом, хотя мы притворяемся, что знаем его, – у нас так много о народе пишут и говорят» (№2, с. 249).
Таким образом, встреча интеллигенции и народа в сюжете не состоялась, есть только попытка приблизиться к нему. Анна Николаевна советует Соничке заняться миссионерской деятельностью, проповедью евангелия среди «инородцев». Но этот потенциальный поворот сюжета остается за пределами очерка. И если Соничка уже добралась до конечной остановки своей поездки – Самары, то Анна Николаевна еще в пути:
«…она спешит на станцию железной дороги, паровоз умчит ее в Оренбург, а потом – далекий путь на лошадях, беспредельные степи, всюду номады, русские переселенцы, больные и в нищете…» (№2, с. 253).
Однако вряд ли правомерно все содержание сводить лишь к выражению народнических представлений. Скорее всего, Нефедов пытается, пусть и в эскизной форме, дать как бы социопсихологический портрет человеческого сообщества в миниатюре, современной жизни вообще. Здесь сразу выделяются свои лидеры, «вожди» (причем, как среди первого, так и среди третьего класса. Выделяются и те, кто не принадлежал ни к какому кружку. Не для всех путешествующих поездка оказывается радостным событием: есть больные пассажиры, отправившиеся на лечение. Этот контраст здоровья, полноты жизни и болезни особенно заметно выступает на фоне величественной реки.
Предметный мир путевого очерка по Волге непредставим без образа самой реки и подробностей открывающихся окрестностей с движущегося парохода. В современных культурологических исследованиях вода и река рассматриваются как древнейшие архетипы, повлиявшие на становление национальных картин мира, а Волга выступает как «культурообразующая категория русской ментальности» [6]. В путевой очерк Нефедова включаются описания волжского речного ландшафта, данные сквозь призму народнопоэтических представлений и авторского лирического отношения. Художественными средствами Нефедов стремится передать особенности поволжских городов, каждый из которых совершенно неповторим. Перед читателем последовательно открываются с движущегося корабля поволжские города и прибрежные поселки: Нижний Новгород, Васильсурск, Казань, Тетюши, Симбирск, Ставрополь, Жигули, Самара.
Река, как известно, с древнейших времен выступает и как порождающее начало, основа жизни, но в ней есть и танатологическое проявление, она может уничтожить, погрузить в себя.
Волга, какой она предстает со страниц очерков Нефедова, тесно связана с фольклором, с героями многих легенд, народных поверий и песен, которые звучат с нижней палубы (легенда о Девьей горе, рассказывающей о том, как красавица, отвергнутая любимым, бросилась с горы в Волгу-матушку; предание о человеке, который в Жигулевских горах встретил богатыря Степана Разина).
Когда появляются Жигулевские горы, всех пассажиров, независимо от «класса», охватывает особое воодушевление. И, как подчеркивает повествователь, даже лица сделались «лучше и добрее». Перед возвышенной красотой все на какое-то мгновение забывают и о социальных распрях, тяготах жизни, о болезнях.
Таким образом, путевые очерки Ф.Д.Не-федова несут в себе черты народнической идеологии, проявляющейся в социальной заостренности, в авторской оценочности персонажей и ситуаций, в контрастности различных «классов» пассажиров (различия тематики диалогов, реакций на окружающий ландшафт и т.д.). Вплетение образа Волги в повествование обогащает жанровую структуру, придает тексту сильно выраженное лирическое начало. Этнографические и фольклорные элементы выполняют в тексте двоякую функцию. Они служат средством раскрытия богатой духовной памяти народа, а также имеют для автора-этнографа самостоятельную ценность. Сюжетно они обусловлены маршрутом путешествия и возникающими по ходу фольклорно-поэтическими «воспоминаниями», своего рода «рассказами в рассказе».
Разумеется, путевые очерки Нефедова остаются текстом, принадлежащим к беллетристике, но это не умаляет их познавательной ценности и значения в литературном процессе рубежа XIX– XX вв. Как мы полагаем, этот же статус (подготовительная функция беллетристики) позволяет увидеть в поздненародническом очерке те тенденции, которые в полной мере проявятся в русской литературе начала XX в., в том числе и у больших мастеров жанра травелога.
-
1. Сарбаш, Л.Н. «Путешествие по Волге» в русской литературе XIX века: «Куль хлеба и его похождения» С.В.Максимова // Филологические науки. Вопр. теории и практики. 2012. №5(16). C. 158.
-
2. Милюгина Е.Г., Строганов, М.В. Путешествие и его природная обусловленность // Русский травелог XVIII–XX веков: коллективная монография. Новосибирск, Изд-во НГПУ, 2015. С. 128.
-
3. Розанов, В.В. Русский Нил // Новый мир. 1989. №7. С. 193–194.
-
4. Нефедов, Ф.Д. Весною: очерки и наброски // Наблюдатель. 1894. №1. С. 139. Далее в тексте после цитаты указан номер журнала и цитируемая страница.
-
5. Берлин, И. История свободы. Россия. 2-е изд. М., Новое литературное обозрение, 2014. С. 305.
-
6. Кусмидинова, М.Х. Концепт Волги в историко-культурном развитии России: философский анализ. Автореф. дис. … канд. философ. наук. Астрахань, 2010. С. 13.
THE TRAVEL ESSAYS OF F.NEFEDOV (POETICS OF POPULIST TRAVELOGUE)
Список литературы Путевые очерки Ф. Д. Нефедова (поэтика народнического травелога)
- Сарбаш, Л.Н. «Путешествие по Волге» в русской литературе XIX века: «Куль хлеба и его похождения» С.В.Максимова//Филологические науки. Вопр. теории и практики. 2012. №5(16). C. 158.
- Милюгина Е.Г., Строганов, М.В. Путешествие и его природная обусловленность//Русский травелог XVIII-XX веков: коллективная монография. Новосибирск, Изд-во НГПУ, 2015. С. 128.
- Розанов, В.В. Русский Нил//Новый мир. 1989. №7. С. 193-194.
- Нефедов, Ф.Д. Весною: очерки и наброски//Наблюдатель. 1894. №1. С. 139. Далее в тексте после цитаты указан номер журнала и цитируемая страница.
- Берлин, И. История свободы. Россия. 2-е изд. М., Новое литературное обозрение, 2014. С. 305.
- Кусмидинова, М.Х. Концепт Волги в историко-культурном развитии России: философский анализ. Автореф. дис. … канд. философ. наук. Астрахань, 2010. С. 13.