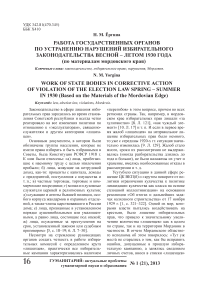Работа государственных органов по устранению нарушений избирательного законодательства весной-летом 1930 года (по материалам Мордовского края)
Автор: Ргина Наталья Михайловна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье определяются причины массовых нарушений избирательного законода-тельства советского государства в сфере лишения граждан права участия в выборах в со-веты и условия принятия решения руководством страны для изменения сложившейся си-туации. Анализируется деятельность комиссий по пересмотру списков «лишенцев» Мордов-ской области, а также реальные достижения проделанной работы. Приводятся количест-венные данные лишенных избирательных прав в мордовском крае до и после проведенных мероприятий.
Законодательство, избирательное право, нарушения, мордовия
Короткий адрес: https://sciup.org/14720732
IDR: 14720732 | УДК: 342.81(470.345)
Текст научной статьи Работа государственных органов по устранению нарушений избирательного законодательства весной-летом 1930 года (по материалам Мордовского края)
Законодательство в сфере лишения избирательных прав зародилось во время становления Советской республики и всегда четко реагировало на все изменения политики по отношению к «эксплуататорам», священнослужителям и другим категориям «лишенцев».
Основным документом, в котором были обозначены группы населения, которые не имели права избирать и быть избранными в Советы, была Конституция РСФСР 1918 г. К ним были отнесены: «а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.; в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома; е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой; ж) лица, осужденные за преступления на срок, установленный законом или судебным приговором» [5, c. 18–19; 6. Л. 7–30].
Несмотря на стремление руководящих органов создать четкость в работе избирательных комиссий с определением круга «лишенцев», практически все избирательные кампании характеризовались наличием
«перегибов» в этом вопросе, причем во всех регионах страны. Так, например, в мордовском крае избирательных прав лишали «за хулиганство» [8. Л. 121], «как чуждый элемент» [10. Л. 17] и т. п. И если в первое время жалоб «лишенцев» на неправильное лишение избирательных прав было немного, то уже с середины 1920-х гг. ситуация значительно изменилась [9. Л. 129]. Жалоб стало много, сроки их рассмотрения не выдерживались (иногда разбирательства длились до года и больше), не были налажены их учет и хранение, имелись необоснованные отказы в рассмотрении и т. д.
Усугубило ситуацию в данной сфере решение ЦК ВКП(б) о «крутом повороте от политики ограничения кулачества к политике ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации» на основании резолюции «Об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства» от 17 ноября 1929 г. [1, с. 321–322]. Одной из мер, которыми власти пытались воздействовать на крестьян, было лишение избирательных прав, что привело к значительному увеличению количества «лишенцев» как в целом по стране, так и на территории Мордовии в частности. В отчете Мордовского областного исполкома об этом говорилось: «Тут уж местá не старались о том, как бы исправить ошибки, допущенные в прошлую избирательную кампанию, а занялись сведением личных счетов, внося в списки «лишенцев»
пачками таких лиц, которые никогда не эксплуатировали, никогда не торговали, стараясь проявить свою власть, что называется во всю, дескать докажи, что ты не эксплуататор, докажи, что ты не торговец» [9. Л. 7–8].
Сложившаяся ситуация вынудила руководство ВЦИК и ЦИК принять реальные меры по устранению нарушений в области лишения избирательного права и связанных с ним дополнительных ограничений.
Весной 1930 г. Центральная избирательная комиссия СССР начала разрабатывать предложения для исправления сложившегося положения. 1 марта 1930 г. А. С. Ену-кидзе (секретарь ЦИК СССР, одновременно секретарь фракции ВКП(б) Президиума ЦИК СССР) направил И. В. Сталину «Докладную записку по вопросу о лишенцах». В ней подробно сообщалось о нарушениях в сфере избирательного законодательства и дополнительных ограничениях, которые сопутствовали лишению избирательных прав, о незаконном расширении круга «лишенцев» местными властями. Енукидзе видел нарушение и в том, что решением вопроса о лишением избирательных прав занимались все (рабочие бригады, домоуправления и т. д.), кроме тех, кто обязан этим заниматься по закону, – избирательных комиссий. Он указывал, что местные власти и ведомства незаконно расширяют список дополнительных ограничений в правах. Енукидзе предлагал запретить произвольно расширять список категорий «лишенцев», определенных инструкциями ЦИК СССР и союзных республик, «каким бы то ни было органам и общественным организациям, не предусмотренными в избирательной инструкции Президиума ЦИК СССР [2. Л. 14], вводить дополнительные ограничения прав «лишенцев», кроме предусмотренных законом, дать им возможность работать, чтобы восстановиться в избирательных правах.
Одновременно фракция ВКП(б) Президиума ЦИК СССР направила в Политбюро ЦК ВКП(б) «Докладную записку о лишении избирательных прав и о лишенцах». В этом документе кратко излагались проблемы, перечисленные в докладной записке Сталину, но особо акцентировалось внимание на несоблюдении сроков рассмотрения жалоб и проблеме детей «лишенцев», выросших при советской власти. Последний вопрос, по мнению Енукидзе, требовал срочного разрешения, так как «по действующему избирательному законодательству лишаются все иждивенцы “лишенцев”, в том числе и дети, достигшие, например, сейчас избирательного возраста, и таким образом создается особый контингент лишенцев, как бы по наследственному признаку» [2. Л. 4]. В прилагаемом к этой записке проекте постановления Президиума ЦИК СССР предлагалось восстановить в избирательных правах детей «лишенцев», достигших избирательного возраста после 1925 г., хотя и живших на иждивении своих родителей.
Отмеченные искажения в использовании законодательных и нормативных актов побудили ЦК ВКП(б) 10 марта 1930 г. издать секретное постановление «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении». Оно предназначалось для всех центральных, краевых, областных и районных исполкомов. В постановлении, в частности, отмечалось недопустимо высокое количество лишенных избирательных прав (15–20 %), в связи с чем предлагалось провести очередной пересмотр списков «лишенцев» [15. Л. 56].
22 марта 1930 г. вышло Постановление ЦИК СССР «Об устранении нарушений избирательного законодательства» в стране. Согласно этому документу властям на местах в практике лишения избирательных прав и связанной с этим технической работы предписывалось руководствоваться исключительно избирательным законодательством СССР и союзных республик. Запрещалось произвольно расширять категории «лишенцев». В трехмесячный срок все инстанции должны были рассмотреть поступившие заявления и жалобы лишенных избирательных прав. Составление списков возлагалось на избирательные комиссии, в сельской местности это право предоставлялось только райисполкомам. В постановлении была отмечена необходимость устранения дополнительных ограничений прав «лишенцев», которые не были оговорены в законодательстве (выселение из квартир, городов, лишение медицинской помощи, права застройки, исключение из школ детей). Запрещалось распространение мер, направленных против
«кулаков», на всех сельских «лишенцев». Требовалось восстановить в избирательных правах детей «лишенцев», достигших совершеннолетия начиная с 1925 г., «если они в настоящее время занимаются общественно – полезным трудом» [3].
10 апреля 1930 г. вышло Постановление ВЦИК «О мерах по устранению нарушений избирательного законодательства и об упорядочении производства дел, касающихся избирательных прав граждан» [4; 8. Л. 180]. Этот документ от Постановления ЦИК СССР от 22 марта отличался более подробным разъяснением каждого пункта. Всем исполкомам предписывалось создать специальные окружные и районные комиссии для скорейшего рассмотрения жалоб и заявлений «лишенцев», а также проверить, подтверждается ли законность включения людей в списки «лишенцев» документально. На эту работу отводилось два месяца. К 10 мая все краевые, областные исполкомы, а также наркоматы и кооперативные центры РСФСР должны были представить «исчерпывающие доклады о мероприятиях, принятых ими во исполнение настоящего постановления». Согласно ст. 11 этого документа, предполагалось привлечение к ответственности должностных лиц, нарушивших избирательное законодательство [12. Л. 112].
Вскоре после опубликования постановления секретариат ВЦИК разослал в облисполкомы специальные статистические формы для получения сведений о результатах пересмотра списков «лишенцев». В них следовало указать данные о лишенных избирательных прав по краю, области или району отдельно по каждой категории к моменту окончания выборов 1928–1929 гг., по состоянию на 10 апреля 1930 г. и после пересмотра списков, а также их занятия на момент заполнения форм. Последние по состоянию на 10 июня необходимо было представить во ВЦИК к 18 июня 1930 г. [8. Л. 179].
На основании указаний центра Мордовский областной исполком 11 апреля 1930 г. вторично предложил создать в городах и районах области комиссии по пересмотру списков «лишенцев» (первый раз такое указание содержалось в циркуляре от 27 марта, в котором предлагалось включить в состав комиссий председателей райисполкомов, пред- ставителей ВКП(б) и ГПУ) [8. Л. 178–179]. Председателями комиссий назначались члены областного исполкома и «ответственные областные работники» [8. Л. 179]. Постановлением от 19 апреля были назначены специальные уполномоченные для осуществления контроля за работой комиссий. Согласно директивам Средне-Волжского краевого избиркома и Мордовского облисполкома созданные комиссии были обязаны в срок до 1 июня рассмотреть все имеющиеся в производстве Советов и исполкомов жалобы на лишение избирательных прав людей, включенных в списки в период проведения сплошной коллективизации, к 25 апреля пересмотреть списки в отношении лиц, лишенных избирательных прав после 1 января 1930 г., и к 15 июня закончить пересмотр всех списков [8. Л. 269].
Стремясь отчитаться о своевременном распространении информации центра в низовые аппараты, Мордовский облисполком письмом от 30 апреля сообщил в орготдел ВЦИК «о принятых мерах», однако с предоставлением отчетного доклада по области задержался. 21 мая 1930 г. из ВЦИК в Мордовский облисполком было отправлено письмо, в котором секретариат просил ускорить представление доклада о проведенных мероприятиях, а также дать объяснения о причинах невыполнения предписания ВЦИК [8. Л. 180].
26 мая 1930 г. Мордовский облисполком отправил ответ на это письмо, в котором снимал с себя ответственность за задержку отчета, аргументируя это тем, что вовремя уведомил нижестоящие инстанции о необходимости проведения указанных в постановлении мероприятий. Кроме того, в письме сообщалось, что требуемые к 18 июня материалы по учету «лишенцев» будут представлены во ВЦИК по форме, рекомендуемой орготделом Средне-Волжского крайисполкома. Это объяснялось тем, что статформа ВЦИК была прислана в область слишком поздно и ее замена неизбежно приведет к «окончательному загромождению и дерганию низового аппарата, на работе которого так резко отзывается всякое несогласованное действие вышестоящих организаций» [8. Л. 179]. В статформе крайисполкома сведения давались отдельно по районам. Ука- зывались число сельсоветов и горсоветов в районе, отдельно – число тех, по которым осуществлялся пересмотр и где были случаи восстановления в правах, количество «лишенцев» на момент пересмотра, количество восстановленных, основания, по которым восстановленные были лишены избирательных прав, их социальное положение. Отдельно составлялась сводка о числе лиц, включенных в списки лишенных избирательных прав в результате пересмотра [8. Л. 151–152, 175].
В данном письме указывались предварительные данные по количеству «лишенцев» Мордовской области по 18 районам и числу восстановленных в правах. Лишенных избирательных прав числилось 26 097 чел. Из них были восстановлены 6 182 чел., или 23,7 % [11. Л. 1].
К середине лета 1930 г. были подготовлены более точные сведения о числе восстановленных в правах и вновь включенных в списки лишенных прав на основе статистических форм, предложенных Средне-Волжским краевым исполкомом. Согласно этим данным к моменту пересмотра списков по Мордовской области лишенных избирательных прав числилось 34 434 чел. При пересмотре были исключены из списка 13 274 чел. (38,5 %). Наибольшее число восстановленных относилось к категории иждивенцев «лишенцев» (7 873 чел.). Торговцев и торговых посредников было 3 113 чел., применяющих наемный труд с целью извлечения прибыли – 836, лиц, проживающих на нетрудовой доход, – 654 чел. Среди служителей религиозного культа ошибочно лишенных было 359 чел. Служащих бывшей полиции и жандармерии было восстановлено 237 чел. Наименьшее число составили осужденные судом (108 чел.) и умалишенные (94 чел.).
По социальному положению на момент восстановления большинство были крестьянами (12 568 чел.), причем преобладали середняки (11 247 чел.), а к беднякам относились 1 321 чел. Служащих было 272, кустарей и ремесленников – 128, рабочих – 85, батраков – 47 чел. Остальные 174 чел. занимались «иными работами».
Дополнительно в списки «лишенцев» было включено 829 чел. Основное их количество (543) также составили члены семей
«лишенцев». Значительно уступали им торговцы (129 чел.). Применяющие наемный труд составили 90 чел., служащие религиозного культа – 57, проживающие на нетрудовой доход – 53, служители бывшей полиции и осужденные судом – по 24 чел. Наименьшее число составили умалишенные (9 чел.).
По социальному положению больше всего вновь лишенных были крестьянами (549 чел.). Служащих было 12, кустарей и ремесленников – 3, рабочих – 2, 263 чел. занимались «прочими работами», не отражавшимися в статистической форме [8. Л. 149, 152, 175, 184].
Таким образом, по Мордовской области число лишенных избирательных прав после пересмотра их списков составило 21 989 чел., что на 12 445 чел. меньше, чем до проведения этой работы.
В чем же заключалась причина задержек с предоставлением сведений о проверке списков «лишенцев»? Районные исполкомы объясняли это тем, что в данный период проходили «более важные» кампании: весенний сев, операции по выселению кулачества за пределы края, организация однодневного сбора военнообязанных по району, поэтому «выделенные товарищи по пересмотру были оторваны» на проведение указанных работ [8. Л. 44]. Отмечалось также незнание последних решений правительства в отношении пересмотра списков «лишенцев» [16. Л. 92]. В Ичалковском районе опоздание было связано с тем, что проверку правильности лишения избирательных прав пришлось проводить под видом изучения готовности к севу. Мотивацией была боязнь дискредитировать сельсоветы «публичным исправлением их ошибок» [16. Л. 67 об.].
В ходе проверки списков «лишенцев» выявились многие недочеты и перегибы во всех инстанциях, ведающих этим вопросом. Учет во многих сельсоветах находился в плохом состоянии, а в некоторых совершенно отсутствовал [8. Л. 237, 242–243, 247–250]. Общее знание инструкций и их понимание были на низком уровне. По словам информатора организационного отдела Мордоблисполко-ма И. С. Трофимова, инструкции о выборах на местах трактовались «как вздумается». 24 марта 1930 г. он проводил проверку документации, беседовал с председателями сель- ских Советов, поэтому его выводы опирались на конкретные примеры и раскрывали действительную обстановку [8. Л. 7–9].
Комиссиями по пересмотру списков «лишенцев» отмечались факты, когда лишение избирательных прав происходило без соблюдения инструкции центра, как это было, например, в Краснослободском районе, где много ошибок было допущено в отношении кустарей и владельцев мелких кустарных предприятий [16. Л. 92] («лишали владельцев 1/4, 1/6 и даже 1/10 части предприятий, не применяющих наемного труда» [13. Л. 44]). В этот список люди попадали по причинам личной неприязни, мести, «просьб со стороны». Например, в феврале-марте 1930 г. председатель одного из сельсоветов Ардатовского исполкома «раскулачил» беднячку и лишил избирательных прав двух граждан, не подходивших ни к одной из категорий «лишенцев». По данному факту было проведено расследование. В ходе разбирательств выяснилось, что причиной всему были «неприязненные отношения» со стороны председателя сельсовета к потерпевшим. Итогом стало наказание виновных [14. Л. 5]. Избирательных прав лишали «за плохое поведение в обществе», «как сборщика утильсырья», за то, что «выбыл из пределов района», «обложен индивидуальным сельхозналогом» или «хозяйство выходит за пределы трудового». В Козловском районе лишили прав «старую деву убогую, которая 22 года лежит в постели» [8. Л. 212]. В Ко-вылкинском районе лишали избирательных прав как «злостных неплательщиков хлебозаготовок», «вредителей советской власти» [10. Л. 17]. В Большеигнатовском районе одну крестьянку лишили за то, что «вела агитацию против советской власти среди отсталых женщин – нацменок против тракторизации и коллективного строительства», а бывшего церковного сторожа «как ярого церковника, тормозящего мероприятия советской власти» [8. Л. 248]. В итоге в некоторых селах доля «лишенцев» доводилась до 30 и более процентов, как это было, например, в Ачадовском и Козловском районах.
Были случаи, когда сельсоветы лишали граждан избирательных прав, не ставя об этом в известность райисполкомы, либо вновь лишали по тем же основаниям лиц, которые были восстановлены вышестоящими исполкомами, что противоречило избирательному законодательству. Все это приводило к тому, что данные по «лишенцам» в сельсоветах и райисполкомах не совпадали [10. Л. 121, 127 – 127 об.].
Отмечались случаи, когда сельские избирательные комиссии не выносили списки лишенных избирательных прав на обсуждение собраний групп бедноты. Это происходило по упущению ответственных лиц либо из-за того, что в результате нерационального распределения времени какая-то часть мероприятий оказывалась неосуществленной. В качестве причины указывался также умысел работников избирательных комиссий. Например, в с. Торбееве собрание не было проведено из-за опасений, что «беднота восстановит лишенцев» [7. Л. 339].
Жалобами были перегружены все инстанции, вплоть до избиркома при СреднеВолжском крайисполкоме. Комиссии отмечали, что обращения лиц, лишенных избирательных прав, рассматривались с большим опозданием [9. Л. 129].
В результате проведенных мероприятий по пересмотру списков «лишенцев» Средне-Волжский крайисполком отмечал, что в Мордовском областном исполнительном комитете не были полностью устранены ошибки как «в сторону расширения круга лиц, лишенных избирательных прав (в основном антисередняцкие перегибы), так и в направлении неполного выявления кулацких элементов, подлежащих лишению прав… исходя из недооценки классовой борьбы» [8. Л. 276]. Крайисполком объяснял такое положение дел хаотичным состоянием учета «лишенцев» как до, так и после пересмотра списков. В его отчете указывалось, что в связи с проведенными мероприятиями положение с учетом лиц, лишенных избирательных прав, улучшилось, «но до благополучия здесь далеко» [8. Л. 276].
И все же главным итогом кампании по устранению нарушений избирательного законодательства явилось выявление истинного состояния дел. Ее основная цель – навести порядок – в значительной мере, на наш взгляд, была достигнута: наиболее вопиющие нарушения были ликвидированы.
В то же время нельзя утверждать, что проблемы в сфере лишения избирательных прав были полностью решены. Несмотря на все попытки, руководству советской страны так и не удалось полностью упорядочить делопро- изводство в этом вопросе. Процесс лишения прав продолжался до 1936 г., и все избирательные кампании, проходившие в этот период, характеризовались недочетами и перегибами. Но все же таких масштабов они уже не достигали.
Список литературы Работа государственных органов по устранению нарушений избирательного законодательства весной-летом 1930 года (по материалам Мордовского края)
- Абрамов В. К. Мордовский народ (1897-1939)/В. К. Абрамов. Саранск, 1996.-С. 321-322
- ГАРФ (Гос. арх. Российской Федерации). Ф. 3316. Оп. 2. Д. 918
- Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1930. 23 марта. № 81
- Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1930. 11 апр. № 100
- Конституция РСФСР от 10 июня 1918 г. -М.: Гос. изд-во, 1920. С. 18-19
- ЦГА РМ (Центр, гос. арх. Республики Мордовия). Ф. Р-20. On. 1. Д. 117
- ЦГА РМ. Ф. Р-238. On. 1.
- ЦДНИ РМ (Центр документации новейшей истории Республики Мордовия). Ф. 87. -Оп. 1.-Д. 24
- ЦДНИ РМ. Ф. 269.-Оп. 1.-Д. 132