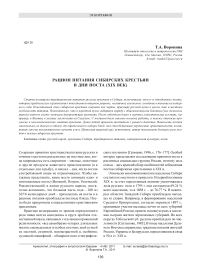Рацион питания сибирских крестьян в дни поста (XIX век)
Автор: Воронина Т.А.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 4 (48), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена традиционному питанию русских крестьян в Сибири, включавшему много- и однодневные посты, которые предполагали ограничения в повседневном пищевом рационе, частичное или полное голодание в течение календарного года. Повседневный стол сибирских крестьян сохранял как черты, присущие русской кухне в целом, так и местные особенности питания. Показательно, что в народной кухне сибиряков наряду с общеизвестными блюдами (уха, пельмени, пироги) важное место занимали дикорастущие растения. Пост соблюдали даже в суровых климатических условиях, например, в Якутии, в местах заключения на Сахалине. С постами были связаны полевые работы, а также отхожие промыслы и неземледельческие занятия крестьян. Даже детей приучали поститься с раннего детства. Важность постов заключалась не только в отказе от определенного набора блюд, они способствовали укреплению нравственности, воспитанию многих положительных качеств и т.п. Привлекая широкий круг источников, автор показывает большую роль постов в жизни сибирских крестьян.
Русский народ, крестьяне сибири, традиционное питание, материальная культура, пост
Короткий адрес: https://sciup.org/14523085
IDR: 14523085 | УДК: 39
Текст научной статьи Рацион питания сибирских крестьян в дни поста (XIX век)
Со времен принятия христианства питание русских в течение года четко разделялось на постные дни, когда запрещалось есть скоромное – мясные, молочные и другие продукты животного происхождения (а в отдельные дни и рыбу), и мясоед – дни, когда состав употребляемой пищи не ограничивался. Чтобы нагляднее представить, какое место занимали одно- и многодневные посты (Великий, Петров, Успенский, Рождественский) в жизни русского народа, достаточно вспомнить, что большая часть года – 200 из 365/6 календарных дней – приходилась на посты и в рационе питания преобладали постные блюда. Посты были приурочены к определенным христианским праздникам.
Практика воздержания от приема определенного рода пищи всегда находилась в круге проблем отечественной науки, связанных с изучением проявлений религиозности: «все своеобразие четырех длительных постов, еженедельных и особых постных дней со всей их местной, сезонной, половозрастной и, особенно, духовной спецификой – обширное поле этнографиче- ского изучения» [Громыко, 1996, с. 176–177]. Особый интерес представляет исследование практики поста в различных социальных группах России, поэтому цель статьи – дать краткий обзор особенностей соблюдения постов сибирскими крестьянами в ХIХ в.
Этнически многокомпонентное население Сибири состояло из местного и пришлого. В первой половине ХIХ в. за счет переселенцев активно увеличивалась доля русских: если в 1795 г. они составляли 69,24 % всего населения, то в 1858 г. – до 76,77 %. В некоторых областях Западной Сибири преобладали выходцы из славян. Например, в формировании населения Среднего Прииртышья, согласно переписи 1897 г., принимали участие выходцы почти из всех губерний Европейской России, причем основную роль в заселении сыграли жители черноземных губерний. Во всех округах Тобольской губ. русские преобладали по численности [Сатлыкова, 1983]. В пище населения Дальнего Востока сохранились традиции питания жителей России, Украины и Белоруссии, переселившихся сюда в 50-е гг. ХIХ в.
Русские, осваивая обширные территории Сибири, приспосабливались к новым условиям жизни, но сохраняли традиции родных мест. Крестьяне соблюдали практически все обряды и обычаи, связанные с церковными установлениями, поэтому неудивительно, что «в сибирских деревнях строго соблюдались посты» [Миненко, 1991, с. 192]. «К вере и церкви прибе-жен, наипаче жители Красноярские и Енисейские», – сообщал в 1809 г. о сибиряках губернатор Томской губ. В. Хвостов [1809, с. 6]. «Об усердии к церкви» крестьян Пермской губ. писал в начале ХIХ в. Н. Попов [1804, с. 227, 338]. Составитель географо-статистического описания Пермской губ. в середине ХIХ в. подполковник Х. Мозель отмечал, что местный крестьянин «усердно ходит в церковь по всем праздничным дням, исполняет строго все христианские обряды, говеет и приобщается каждый год… соблюдает все посты» [1864, с. 331].
В ХIХ в. слова «пост», «пощенье», «постованье», «постничанье», «поститься» и их производные составляли часть повседневного лексикона русских. Но в разных местах бытовали местные слова и выражения. Русские, проживающие в Сибири, говорили «постовать», а в других регионах чаще употребляли глагол «поститься». Слово «говение» означало благочестивый обычай быть умеренным в пище, не есть скоромное и даже сладкое (обычно не меньше трех дней), посещать храм. Известны и другие производные слова: «говельный» – «до говения относящийся», «говельщик» или «говельщица» – тот, кто говеет; «разговляться» – есть скоромное в первый раз после поста (отсюда «разговенье», «разговины»). Соответственно «заговенье» означало последний день накануне поста, когда еще можно употреблять скоромную пищу [Даль, т. I, 1989, с. 364; т. III, 1990, с. 345].
Питание сибиряков носило в целом ярко выраженный земледельческий характер, что обусловливало наличие в традиционном пищевом рационе растительных продуктов, особенно много хлеба: «Был бы только хлеб ржаной – крестьянин больше ни о чем не заботится» [Потехин, 1986, с. 271–272]. Вместе с тем местные природные и климатические условия существенно влияли на характер питания, поэтому пища населения всего края не была одинаковой [Липинская, 1997]. Соответственно разным был и постный стол сибирских крестьян, в котором прослеживались черты, присущие русской кухне в целом, а также местная специфика питания. Наличие у крестьян собственного хозяйства значительно облегчало соблюдение постов. Известная поговорка «щи да каша – пища наша» достаточно емко характеризует особенности русской национальной кухни. В Сибири ни один крестьянин не обходился без щей и каши. Основной пищей в дни поста были капустные щи с мучной заправкой, похлебки, блюда из картофеля, капусты, гороха, фасоли, чечевицы, грибов с добавлением льняного или конопляного масла, рыбы в отварном, жареном и запеченном виде, кисели, ягоды, мед, квас, а также дикоро сы.
Крестьяне Восточной Сибири, как писал Н.С. Щукин, «посты соблюдают строго в смысле неядения скоромного». Здесь в большом количестве культивировали картофель, получивший широкое распространение в России с конца XVIII в. Летом, когда пища была более скудной, по лесистым склонам собирали черемшу, медвежий лук ( Allium ursinum L.) – дикорастущее растение из семейства лилейных со съедобными, пахнущими чесноком листьями, которые толкли и, немного посолив, ели с квасом. Стол дополнялся прошлогодними запасами картофеля и редьки, соленых и сушеных грибов, ягод. В праздники, если они приходились на пост и можно было есть рыбу, пекли пироги с рыбой, варили щербу (уху), жарили на масле тельное из рыбного фарша, делали пельмени с рыбой. Варили также пшеничный, гороховый и ягодный (в основном из облепихи) кисели, пекли блины, оладьи, пряженики – пирожки с фаршем, жаренные на конопляном или кедровом масле [Щукин, 1859, с. 36, 44, 47; 1990, с. 216].
Много русских проживало в Ялуторовском, Туринском, Тарском, Тюменском и Тобольском округах Тобольской губ. М.М. Громыко, используя в качестве источника ответы на вопросы анкеты Русского Географического общества 40-х г. XIX в., приводит интересные сведения о том, как соблюдали посты жители степного района Восточной Сибири. Крестьяне Каинского уезда готовили просяную или ячную кашу с конопляным или рыжиковым маслом (из семян рыжика (Camelina Crantz) – маслянистого растения из семейства крестоцветных), а также с рыбьим жиром, щи («шти») из рубленой капусты с ячменной крупой. Ели также картофельницу (картофельную похлебку), вареный горох, репницу с маком (похлебку из репы), репные или морковные паренки с суслом (сусло – сладковатый навар на муке и солоде, использовался в качестве подливы), морковницу (похлебку из моркови), редьку, капусту, квашеную свеклу, пили густой квас. В числе повседневных блюд отмечена кулага – смесь ржаной муки и солода, заваренная кипятком, пропаренная и выдержанная на холоде; среди постных блюд она считалась лакомством. Постный праздничный стол, как правило, отличался разнообразием рыбных и мучных блюд. В том же уезде пекли пироги со щукой, чебаком, язем, окунем, карасем, налимом, линем, готовили жаркое из этих же видов рыбы. Уху (по-местному щарбу) варили из ершей и пескарей либо из той же рыбы, что шла в пироги. Оладьи и блины из пшеничной муки ели с конопляным и рыжиковым маслом. Каша тоже входила в праздничное угощение. Завершался постный вариант праздничного стола блюдами из клюквы, черной смородины и «глуб-ники» в сусле. В основе рациона крестьян Тарского уезда, Минусинского и Ишимского округов был тот же набор блюд с некоторыми дополнениями. Близкая картина складывается по описанию питания населения Шушенской и Тесинской волостей Минусинского округа [Громыко, 1973].
Жители Алтайского края, как сообщает В.А. Липинская, в посты ели дикий или огородный зеленый лук с квасом, затирки из муки, каши, отварной картофель, крупяные щи, болтушки, блюда из гороха, тюрю из хлебного крошева с квасом и водой, соленые грибы, огурцы и капусту. Местной особенностью была отварная лапша из ржаного теста. В праздники жарили рыбу, пекли пироги, варили щербу из свежей рыбы, похлебки с сушеной рыбой; пищу сдабривали льняным, конопляным, рыжиковым и кедровым маслом [Липинская, 1987, с. 180, 188].
Постный рацион крестьян, проживавших в юго-западной половине Шадринского уезда Пермской губ., включал холодное из тертой редьки с луком, картофелем и огурцами, белую капусту («серая» капуста из зеленых листьев в пищу не употреблялась), пирог из рыбы или груздей, густые щи из «толстой яшной» крупы, кашу из той же, но мелкой крупы, уху из свежей, а чаще из сухой рыбы, репные паренки и сушеную вишню в сусле, сладкие пироги с маком, толченой черемухой, вишней, густой квас из сусла. Суп и похлебка с рыбой, заправленные растительным маслом, считались полупостными блюдами. Традиционные для сибиряков «пельняни» (пельмени) начинялись груздями и капустой [Успенский, 1859, с. 29].
В Верхотурском уезде «пища, ежедневно употребляемая в постные дни, – щи с ячной крупой, картофель, репа, морковь, соленая капуста, а в праздники – рыба. В Ирбитском уезде в постные дни всегда ели черный или ячменный хлеб, щи из толстой ячменной крупы, просяную или овсяную кашу с постным маслом, соленую капусту, огурцы, грузди, вареный картофель, редьку с квасом, по праздникам в постные дни ели белый хлеб, пирог с рыбой, вареную рыбу, жаркое из рыбы или картофеля, горошницу, гороховый кисель с постным маслом, просяную кашу с маслом» (Архив Русского географического общества. Р. 29. Оп. 1. Д. 18. Л. 2 об.; Д. 21. Л. 1 об.).
В некоторых сибирских губерниях перед Петровками (так называли Петров пост), как и перед Филипповым постом, праздновали «яичное заговенье» – варили яйца. Петровки заканчивались празднованием дня памяти святых апостолов Петра и Павла (29 июня), который еще называли днем Петра-рыболова. Почитание апостола Петра как покровителя рыбных промыслов было принято в Западной и Восточной Сибири [Громыко, 1975, с. 191]. В Тюменском окр. в день праздника рыбаки служили молебен, в некоторых местах существовал обычай собирать «Петру-рыболову на мирскую свечу», которую ставили в храме [Максимов, 1994, с. 393]. Крестьяне Приангарья, садясь за праздничную щербу (уху), приговаривали: «Петры-Павлы! Садитесь хлеба-соли кушать: вам каша, нам чаша; вам рыбка, нам щерба» [Макаренко, 1913, с. 88]. В деревнях Бутурлинской вол. на Алтае в дни заговенья накануне Петрова и Рождественского поста отмечали праздники «съезжих» [Миненко, 1991, с. 203].
Из всех дней Страстной седмицы выделялся Великий, или Чистый, четверг (Великий Четверток). По народной традиции, большое значение придавали четверговому хлебу. Крестьяне верили, что в Великий четверг Господь невидимо благословляет даже тот хлеб, который пекли и подавали к обеду [Максимов, 1994, с. 322]. Уроженец с. Усть-Ницы Тюменского окр. Ф. Зобнин вспоминал: «Утром в Четверг только что встанем – видим, что на божнице, около икон, стоит коврига хлеба и большая резная деревянная солонка: это четвережный хлеб и четвережная соль» [Зобнин, 1894, с. 40].
Важно, что после окончания Великого поста к скоромной пище приступали не сразу. Ф. Зобнин вспоминал, что после Христовой обедни на столе сначала появлялось масло: «Мы пробовали было заявить, что масла не хочем. Но отец с матерью стояли на своем, говоря, что нужно выхлебнуть ложку масла, иначе после поста-то сердце будет давить. После масла стали молосными щами разговляться» [Там же, с. 43].
Известно, что крестьяне в течение постов копили молочные продукты, которые нередко продавали или обменивали на другие продукты питания, что давало немалую экономическую выгоду. Так поступали чаще всего в Петров пост. Например, в с. Усть-Ницы Тюменского окр. заботливые хозяйки копили творог для т.н. кислого молока, сметану и масло. Чем длиннее были Петровки, тем выгоднее это становилось для крестьянок, потому что в промежговенье – время между постами – ни сметаны, ни масла накопить не удавалось. Поскольку пост приходился в основном на июнь, носивший название «межень», масло называлось «меженным». Оно считалось самым лучшим и доброкачественным [Там же, с. 55]. В Сибири и на Дальнем Востоке излишки молока в постные дни замораживали [Аргудяева, 2001, с. 81].
В дни постов почти все крестьяне старались пользоваться «постной» посудой – горшками, мисками, ложками. Известно, что семейские Забайкалья также ревностно относились к посуде и разделяли ее на чистую и нечистую, на постную и скоромную («молос-ную») [Болонев, 1984, с. 32].
Детей приучали к посту довольно рано, причем материнским молоком ребенка кормили три поста, не считая Филипповский и Петров. Например, если младенец родился зимой, то кормили два Великих и один Успенский, а если весной, до Успенского поста, тогда кормили два Успенских поста и один Великий. После на малыша распространялась необходимость соблюдения постов (Архив Российского этнографического музея. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1725. Л. 4; Д. 583. Л. 4 об.). У крестьянок, проживавших на Дальнем Востоке (Приамурье, Приморье), как и у многих русских женщин, промежуток между родами был связан с обычаем кормить ребенка грудью «два Великих поста», а иногда и весь период лактации [Аргудяева, 2001, с. 196]. Крестьяне Западной Сибири отсутствие скоромной пищи в Великий пост объясняли детям тем, что все молоко и масло сгорело на масленичных кострах: «Сожгли все, теперь ни масла, ничего нет» [Новоселова, 1974, с. 40].
Житель с. Усть-Ницы Тюменского окр. Ф. Зобнин вспоминал, насколько строго соблюдали пост в их семье. Накануне Пасхи каждый из детей получал от родителей яйца – «по паям», и никому из них не приходило в голову съесть их, не дожидаясь праздника. Тем более непонятным для детей казался рассказ отца о том, «что он в городе видел “господ”, которые и в Великий пост “кушали мяско”» [1894, с. 42].
Помимо обязательных постов, время проведения которых регламентировалось уставом Русской Православной церкви, часть верующих добровольно налагала на себя дополнительный пост в понедельник – «понедельничанье». «Кто понедельничает, – говорили в народе, – возрадуется заступничеству архангела Михаила». Жители Усть-Ницынской слободы Тюменского окр. воздерживались также от употребления мясной и молочной пищи по средам и пятницам, а старики еще и по понедельникам [Зобнин, 1898, с. 125]. Многие пожилые крестьяне Шадринского уезда свято соблюдали посты, установленные церковью, а также по понедельникам [Успенский, 1859, с. 14–15].
На Крайнем Севере Восточной Сибири пост соблюдали жители Русского Устья Верхоянского окр., расположенного на р. Индигирке в 80 в. от Ледовитого океана, в зоне тундры. Важным моментом в жизни индигирцев, проживавших в болотистой местности, лишенной растительности, где морозы зимой доходили до –50 оС, был приезд священника. Это случалось только перед Пасхой, поэтому все необходимые требы – крещение, венчание (несмотря на пост) и отпевание – исполнялись разом. «Работы священнику много; отовсюду съезжаются постники с семействами; говеют каждогодно». Для женщин говенье и «гощенье» были единственной возможностью увидеть друг друга, хотя мужчины виделись чаще на промыслах [Зен-зинов, 1913, с. 176–177].
Хлеб, крупитчатую и ржаную муку, кирпичный чай, сахар, пшеничные или ржаные сухари привозили из Якутска. Основным продуктом питания была рыба – чир, омуль, муксун. Из нее варили преимущественно уху (здесь слово «щербá» произносили с ударением на последнем слоге). Рыбу использовали и в вяленом виде (юкола). С рыбой пекли пирожейники, но такие пироги могли позволить себе только богатые. Чаще всего делали топтанники – пироги, у которых и начинка, и тесто были только из рыбы. Круглые лепешки из мятой «сельдятки» назывались «тельно». Из мороженой и мятой икры, лучше всего «сельдятки», готовили барбаны – толстые лепешки типа оладий и тонкие большие (во всю сковороду) блины. Иногда в тесто блинов и барбанов добавляли безвкусные сладковатые корни дикорастущей макарши (макаршино коре-нье, змеин-корень (Polygonum Bistorta)) [Даль, 1989, т. II, с. 290], отчего они немного темнели. С вареной и толченой макаршей жарили также «сельдяжьи пупки», это блюдо называлось «макаршиный кавардак». Ягоды – морошка и «дикуша» (род черной смородины (Ribes)) [Даль, 1989, т. I, с. 436] – здесь были очень редки. Летом собирали щавель и жарили его в рыбьем жире. Вместо чая использовали бруснику, иногда пили про сто горячую воду [Зензинов, 1913, с. 163–166]. В.М. Зензинов обнаружил много общего в культуре насельников Русского Устья и жителей с. Марково на Анадыре, которые, как и индигирцы, соблюдали посты [Зензинов, 1914, с. 155].
Жители Русского Устья при ловле рыбы ориентировались на посты. Так, омулевый ход продолжался весь Петров пост до Петрова дня, ход «сельдятки» и муксуна начинался до Успения и длился до Воздвижения. Метать икру рыба начинала к Иванову дню (29 августа). На Успенский пост ориентировались при промысле больших белолобых гусей: они возвращались на время гусевания к Успенью, или «Ивану» (29 августа) [Зензинов, 1913, с. 149, 150, 156].
С постами были связаны некоторые сельскохозяйственные работы: по народным приметам, погодные условия изменялись в определенные дни календарного года. На посты, например, ориентировались при определении начала сенокоса, уборки зерновых и огородных культур. Лен выбирали во время Успенского поста незадолго до Успеньева дня (15 августа), потом наступала пора утренних холодных рос. Коноплю убирали до Иванова дня, когда соблюдали однодневный пост в память о святом пророке Иоанне Предтече (29 августа). После него начинались легкие морозы, и крестьяне спешили с уборкой картофеля. Таким образом, посты в известной степени разграничивали время года и были связаны с земледельческим кругом занятий. В зимние посты мужчины занимались подледным ловом рыбы, вывозкой леса и подготовкой к сплаву. В марте с установлением наста начиналась охота на медведей и лосей.
Сибирские крестьяне часто уходили на различного рода заработки. С начала Великого поста до Рождест- венского поста часть мужского населения нанималась на камнетесные работы. Крестьяне также дожидались окончания Петрова поста и в Петров день (29 июня) начинали косить, а потом уходили на заработки («на сторону»). Рабочий год крестьян, занимавшихся отхожим промыслом, начинался между 8 сентября и 1 октября и длился до Петрова дня, поэтому для некоторых ведение промысла приостанавливалось между Петровым днем (29 июня) и Преображением (6 августа) – временем окончания покоса.
В Сибири был очень развит такой промысел, как сбор кедровых орехов (из них били масло для себя и для продажи), а также дикорастущих растений. В северных районах Сибири сбор кедровых орехов и дикорастущего хмеля совпадал с окончанием Успенского поста [Громыко, 1975, с. 222, 228; Сатлыкова, 1983, с. 166]. Жители Курганского окр. к началу Великого поста приурочивали строительство избы. Считалось, что тем, кто начал рубить дом ранней весной и в новолуние, будет сопутствовать удача [Громыко, 1975, с. 236–237].
Пост соблюдали и в местах заключения на о-ве Сахалин в Охотском море, территория которого по природно-климатическим условиям не везде была пригодна для поселения. На 1 января 1890 г. на острове насчитывалось 5 905 каторжных обоего пола [Чехов, 1987, с. 229]. Большинство составляли прибывшие из Тамбовской, Самарской, Черниговской губерний и др. [Там же, с. 242]. А.П. Чехов, изучая быт сахалинских ссыльных, отмечал, что из всех учтенных им обитателей 86,5 % составляли православные, которые продолжали соблюдать церковные таинства [Там же, с. 306]. «Поселенцы говеют, венчаются и детей крестят в церквах, если живут близко, – отмечал он. – В дальние селения ездят сами священники и там “постят” ссыльных» [Там же, с. 303]. Конечно, необычные условия жизни сказывались и на возможностях посещения храма: «В Великом посту каторжные говеют; на это дается им три утра. Когда говеют кандальные или живущие в Воеводской и Дуйской тюрьмах, то вокруг церкви стоят часовые, и это, говорят, производит удручающее впечатление. Каторжные чернорабочие обыкновенно в церковь не ходят, так как каждым праздничным днем пользуются для того, чтобы отдохнуть, починиться, сходить по ягоды; к тому же церкви здешние тесны, и как-то само собою установилось, что ходить в церковь могут только одетые в вольное платье, то есть одна так называемая чистая публика» [Там же].
В соответствии с «Табелем о довольствии ссыльнокаторжных мужчин и женщин пищею», составленным на основании положения о провиантском и приварочном довольствии войск от 31 июля 1871 г., сахалинские ссыльные тоже состояли на казенном довольствии и получали ежедневно печеный хлеб, крупу и разные приварочные продукты на 1 коп.; в постный день мясо заменялось рыбой. Арестанты получали еду в бараках или в пристройке, в которой помещалась кухня, но качество продуктов оставляло желать лучшего. Постились и солдаты, которых называли «пионерами Сахалина», потому что они появились здесь до учреждения каторги. Солдаты жили на западном, южном и юго-восточном побережье острова и питались так же плохо, как и арестанты. Летом к ним приходило судно с провиантом, а зимой приезжал «попостить» их священник [Там же, с. 292, 293, 308, 309].
Данная статья дает лишь небольшое представление о пищевом рационе сибирских крестьян в дни поста. Приведенные сведения позволяют сделать вывод о строгом и неукоснительном соблюдении постов. Даже детей крестьяне приучали поститься с раннего детства. Воздержание от скоромной пищи давало значимую экономическую выгоду. Общеизвестны такие блюда сибиряков, как уха, пельмени, пироги и т.д. Однако в пищу сибирские крестьяне широко употребляли и дикорастущие растения. Пост соблюдали даже в суровых климатических условиях, например, в Якутии, а также в местах заключения на Сахалине. С постами были связаны некоторые полевые работы крестьян, отхожие промыслы и некоторые неземледельческие занятия сибиряков (охота, рыболовство, сбор кедровых орехов, хмеля).
В целом, как показывают источники, в ХIХ в. посты, определявшие ограничения в пищевом рационе, вносили большие изменения в обычную жизнь сибирских крестьян. И хотя в соблюдении поста у них было много общего, некоторые блюда составляли локальные особенности, т.е. вариативность в кулинарии определялась природной зональностью. Постный стол составлял существенную часть традиционного пищевого рациона, можно сказать, что на чередовании поста и мясоеда зиждилась русская национальная кухня. Изучение практики поста имеет большое значение для определения национальных черт народа, связанных с его традиционным питанием. Это позволяет рассматривать пост как важный компонент материальной культуры этноса.