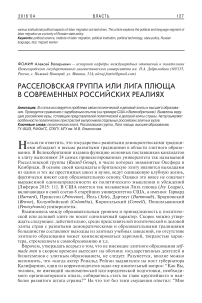Расселовская группа или лига плюща в современных российских реалиях
Автор: Фомин Алексей Валерьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется проблема связи политической и деловой элиты и высшего образования. Проводится сравнение с зарубежным опытом (на примере США и Великобритании). Выявлены ведущие российские вузы, готовящие представителей политической и деловой элиты страны. Автор выявляет особенности политических пристрастий выпускников отдельных российских элитных вузов.
Политическая элита, расселовская группа, лига плюща, высшее образование, гу-вшэ, ранхигс, спбгу, мгу им. м.в. ломоносова
Короткий адрес: https://sciup.org/170168356
IDR: 170168356
Текст научной статьи Расселовская группа или лига плюща в современных российских реалиях
Н ельзя не отметить, что государства с развитыми демократическими традициями обладают и весьма развитыми традициями в области элитного образования. В Великобритании издавна функцию основных поставщиков кандидатов в элиту выполняют 24 самых привилегированных университета так называемой Расселловской группы ( Russell Group ), в числе которых знаменитые Оксфорд и Кембридж. В основе своей кандидаты в британскую элиту являются выходцами из одних и тех же престижных школ и вузов, ведут одинаковую клубную жизнь, фактически имеют одну образовательную основу. Однако это вовсе не означает выраженной однонаправленности их политического мышления и убеждений [Лиферов 2015: 11]. В США имеется так называемая Лига плюща ( Ivy League ), включающая в свой состав 8 старейших университетов США, а именно: Гарвард ( Harvard ), Принстон ( Princeton ), Йель ( Yale ), Дартмут ( Dartmouth ), Брауновский ( Brown ), Колумбийский ( Columbia ), Корнелльский ( Cornell ), Пенсильванский ( Pennsylvania ) университеты.
Взаимосвязь между образовательным уровнем и принадлежность к политической или деловой элите не носит однозначный характер. Скорее можно утверждать следующее: действительно, среди представителей политической и деловой элиты стран с развитыми демократическими и образовательными традициями большинство составляют выходцы из элитных учебных заведений, но отсутствие элитного образования может компенсироваться харизмой, твердостью характера, стремлением к самообразованию и т.д.
Впрочем, утверждать всерьез о том, что не имеющие элитного образования selfmade men в скором времени вытеснят на обочину государственных деятелей и бизнесменов с элитным образованием, не следует. Разумеется, вполне можно вспомнить, что «когда актер Рональд Рейган выдвигался на пост губернатора Калифорнии, один из корреспондентов задал ему язвительный вопрос: “Как Вы, человек, не имеющий экономической или юридической подготовки, необходимого организаторского опыта, собираетесь стать во главе крупнейшего и наиболее развитого штата страны?” На что тот без тени смущения ответил: “Мне приходилось играть роли королей и императоров, а уж с ролью губернатора я как-нибудь справлюсь”» [Лиферов 2015: 9-10]. Всем прекрасно известно, что Р. Рейган справился не только с ролью сенатора, но также и с ролью главы государства. Указанное, правда, отнюдь не означало и не означает, что Голливуд вместо Лиги плюща стал главной «кузницей кадров» американского истеблишмента.
В нашей стране, несмотря на наличие крупных международно признанных высших учебных заведений, аналогов Расселовской группы или Лиги плюща до недавнего времени не было. Причин тому несколько. Во-первых, в СССР отсутствовала традиция функционирования элитных закрытых колледжей с особым корпоративным духом (имелись лишь военные учебные заведения такого рода – суворовские и нахимовские училища). Во-вторых, масштабы страны способствовали развитию высшего образования на периферии, что позволяло готовить кадры для нужд хозяйственного развития регионов на местах. В-третьих, важно отметить, что и в советские годы (в т.ч. и в период перестройки), и после распада СССР в состав политической и деловой элиты страны было рекрутировано немало выходцев из провинции, многие из которых имели лишь профильное образование, полученное в своем регионе. В-четвертых, до недавнего времени образовательный уровень не играл порой не то что решающей, но даже значимой роли для рекрутирования политической и деловой элиты. Таковой считался куда как менее важным в сравнении с харизмой, умением приспосабливаться к обстоятельствам, медийной активностью, положительным имиджем в глазах избирателей (это требовалась политическим деятелям), а также недюжинной деловой хваткой, наличием связей (означенное было необходимо для предпринимателей, в т.ч. и крупных). В результате у многих в России, причем как у лиц, причастных в той или иной мере к политической и деловой элитам, так и весьма далеких от них, сложились представления, согласно которым а) учиться управлению государством «не надо» и б) чему успешного бизнесмена или управленца может научить бедный профессор экономики?
В начале нулевых годов в рамках процесса укрепления государственных институтов происходило не только усиление реальных рычагов влияния органов исполнительной ветви власти, но также и превращение парламента в соответствующий реалиям XXI столетия законодательный орган. Капитализм первой половины 1990-х гг., основанный либо на либеральном фундаментализме, либо на криминальных понятиях, также стал отходить в прошлое. В новых условиях как государственным служащим разного ранга, так и представителям бизнес-сообщества потребовалось образование, преимущественно юридическое или экономическое (в т.ч. и управленческое).
По сути, именно появление госслужащих и топ-менеджеров на студенческой скамье не могло не дать новый стимул для соединения науки и практики [Лазутина и др. 2014: 239], благо таковое является источником социокультурного и исторического развития любого общества и каждой личности в нем [Голуб, Голуб 2014: 12] и к тому же содействует реализации принципов устойчивого развития как научно-практического проекта [Памятушева 2014: 90]. Исследователи отмечают, что «никакие, даже самые интерактивные лекции и семинары, деловые игры или тренинги не могут стать основой профессионального опыта и в полной мере сформировать профессиональную культуру госслужащего. Студентам необходимо общение со специалистами из различных структур государственного и муниципального управления» [Колодина 2013: 53]. В то же самое время пришедшие на студенческую скамью госслужащие как раз этой самой профессиональной культурой и обладают, что, естественно, облегчает образовательный процесс. Таким образом, в прошлом десятилетии в Российской Федерации стала складываться адекватная текущему моменту модель российского университета, опирающаяся на тесное взаимодействие власти, высшей школы и фундаментальной науки по известному на Западе принципу town and gown (город и мантия), подразумевающему создание настоящего союза в рамках триады «власть – наука – общество» [Колобов 2003: 108].
Исследователи также отмечают, что во многих случаях именно широкий спектр профессиональной направленности, получение второго высшего образования или ученой степени административно-политической элитой позволяет ей использовать этот образовательный потенциал при решении ключевых вопросов в политике [Самохина 2014: 181]. Важно упомянуть, что в настоящее время около половины всех представителей административно-политической элиты получили второе высшее образование всего в 6 престижных вузах страны – Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московском государственном юридическом университете имени О. Кутафина (36,9%), Санкт-Петербургском государственном университете (некоторое свое отставание от двух предыдущих вузов он с лихвой компенсирует тем фактом, что Санкт-Петербургский государственный университет, точнее, один только его факультет – юридический, дал четырех лидеров российского государства – А.Ф. Керенского, В.И. Ульянова (Ленина), В.В. Путина и Д.А. Медведева), Общевойсковой академии Генштаба Вооруженных сил РФ (по 2,8%), Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ (2,3%) и Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (2,3%) [Лиферов 2015: 31]. Нельзя также не упомянуть и Государственный университет – Высшую школу экономики, в которой получили образование (как второе, так и первое) немалое число топ-менеджеров крупных российских компаний.
Кроме того, означенные 7 вузов предоставляют большой выбор магистерских программ (уже давно отмечалось, что при двухуровневой системе у студента больше возможностей для осознанного выбора профессиональной специализации [Двухуровневая система… 2007: 8]). Еще в недавнем прошлом едва ли не большинство представителей российского образовательного сообщества относились к магистратуре весьма скептически, а то и прохладно, однако в последние годы стало очевидным, что магистратура доказала свою состоятельность как ступень образования [Марголис 2014: 159-160]. Обучение в магистратуре в настоящее время дает возможность государственному служащему или топ-менеджеру не только получить вожделенные корочки, но и действительно повысить уровень своей компетентности. Особенно это касается такой важной для государственных служащих составляющей профессиональной подготовки, как коммуникативная компетенция [Кондратьева 2012: 26].
Можно даже признать, что в чем-то ситуация с элитным образованием в современной России начинает быть схожей с той, что наблюдалась в Великобритании столетие назад. Там, как известно, видные члены Расселовской группы – Кембридж и Оксфорд являлись своего рода «поставщиками кадров» для консервативной партии, в то время как Лондонская школа экономики и политических наук являлась оплотом лейбористов. В российских реалиях все не столь однозначно как в высших эшелонах власти [Кочетова, Кудрина, Фоменков 2015: 714-715], так и в элитных вузах, однако можно утверждать, что РАНХиГС ориентирована в первую очередь на подготовку и переподготовку государственных служащих, отличающихся «здоровым консерватизмом», в то время как ГУ–ВШЭ содействует подготовке и переподготовке топ-менеджмента крупных компаний, а также служащих министерств, входящих в экономический блок. Выпускники ГУ–ВШЭ в целом отличаются либеральными убеждениями [Пахомова 2015: 90].
Имеются различия и в образовательном процессе. Так, РАНХиГС специализировалась прежде всего на обучении по программам, дополнительных к высшему образованию: МВА, программы переподготовки и повышения квалификации [Гаврилина, Аракелян 2014: 54]. Государственный университет – Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ) с момента своего создания в 1992 г. ориентировался на отбор и внедрение наиболее эффективных организационных форм, причем часто внедрял те из них, что были приняты на Западе [Радаев 2006: 10]. Кроме того, в ГУ–ВШЭ развита практика приглашения профессоров из зарубежных университетов, что способствует улучшению знаний английского языка у студентов, развитию сотрудничества с иностранными вузами, а также трудоустройству выпускников за границей [Барановская, Успенская 2009: 48].
Таким образом, следует согласиться с тем, что «в системе национальной безопасности образование играет огромную и все возрастающую роль. Оно выступает одновременно как ее объект, ресурс и средство и создает, укрепляет фундамент будущего благополучия нации и безопасности страны [Горбачев 2014: 85]. В современной Российской Федерации происходит становление аналога британской Расселовской группы или американской Лиги плюща. В его состав входят 7 ведущих российских вузов, дающих высококачественное профильное образование и переподготовку в области экономики, юриспруденции и государственного управления. Имеются также и различия в политических пристрастиях выпускников отдельных российских элитных вузов.
Список литературы Расселовская группа или лига плюща в современных российских реалиях
- Барановская Т.А., Успенская Е.А. 2009. ГУ-ВШЭ на пути к интеграции в европейское образовательное «пространство». -Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 7. С. 47-48
- Гаврилина О.П., Аракелян А.Э. 2014. Позиционирование программ высшего профессионального образования РАНХиГС при Президенте РФ. -Механизация строительства. № 8(842). С. 54-58
- Голуб Л.В., Голуб В.В. 2014. Наука и практика: опыт инновационного развития профессионального образования. -Среднее профессиональное образование. № 11. С. 12-15
- Горбачев А.А. 2014. Противодействие манипулированию как важный фактор обеспечения национальной безопасности России. -PolitBook. № 4. С. 77-88
- Двухуровневая система не «принудиловка». Как раз наоборот! 2007. -Аккредитация в образовании. № 19. С. 8-11
- Колобов 2003. Инновационная модель российского университета. -Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Инновации в образовании. № 1. С. 105-108
- Колодина Е.А. 2013. Проблемы формирования профессиональных компетенций студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление». -Известия Иркутской государственной экономической академии. № 3. С. 50-54
- Кондратьева Е.В. 2012. Формирование компетенций у государственных служащих в образовательной системе РАНХиГС. -Система подготовки управленческих кадров Российской Федерации в условиях модернизации (к 20-летию Президентской академии). Саратов: Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина -филиал РАНХиГС. С. 26-28
- Кочетова А.М., Кудрина А.А., Фоменков А.А. 2015. Российская элита: от противостояния двух групп к секторальному контролю. -Молодой ученый. № 4(84). С. 713-715
- Лазутина А.Л., Мухорина Л.В., Фоменков А.А., Чадаева С.В. 2014. О проблемах преподавания курса «политология» студентам неполитологических специальностей. -Среднерусский вестник общественных наук. № 1. С. 237-240
- Лиферов А.П. 2015. Образование и путь в элиту. -Психолого-педагогический поиск. № 3(35). С. 9-40
- Марголис Н.Ю. 2014. Российская магистратура: особенности эволюции и проблемы. -Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. № 41(41). С. 157-160
- Памятушева В.В. 2014. Связь науки и практики в деле развития России. -Актуальные проблемы развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. В 7 ч. М.: ООО «Ар-Консалт». С. 88-90
- Пахомова Е.А. 2015. Системный либерализм: истоки теории и практики. -Научное мнение. № 1-1. С. 87-91
- Радаев В.В. 2006. Новые формы организации учебного процесса в ГУ-ВШЭ. -Университетское управление: практика и анализ. № 4. С. 10-24
- Самохина А.В. 2014. Региональная административно-политическая элита России 1990-х годов: социально-демографические характеристики (на примере Челябинской области). -Вестник ВЭГУ. № 5(73). С. 177-183