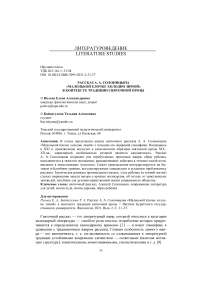Рассказ А. А. Солоницына "Маленькой ёлочке холодно зимой" в контексте традиции святочной прозы
Автор: Полева Елена Александровна, Байдагулова Татьяна Алексеевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ святочного рассказа А. А. Солоницына «Маленькой ёлочке холодно зимой» с позиции его жанровой специфики. Написанное в XXI в. произведение восходит к классическим образцам святочной прозы XIX-XX вв., характерной особенностью которой является каноничность. Рассказ А. А. Солоницына сохраняет ряд атрибутивных признаков жанра: образ ребенка, находящегося в тяжелом положении, разворачивание действия в течение одной ночи, введение в повествование чудесного. Сюжет произведения интерпретируется на бытовом и бытийном уровнях, актуализирующих социальную и духовную проблематику рассказа. Трагическая развязка произведения (смерть, уход ребенка из земной жизни) служит выражению мысли автора о кризисе милосердия, об отходе от христианских заповедей, пагубном для духовно-нравственной жизни современного общества.
Святочный рассказ, алексей солоницын, современная литература для детей, мотив чуда, мотив дарения, образ ребенка
Короткий адрес: https://sciup.org/148323751
IDR: 148323751 | УДК: 821.161.1, | DOI: 10.18101/2686-7095-2021-2-31-37
Текст научной статьи Рассказ А. А. Солоницына "Маленькой ёлочке холодно зимой" в контексте традиции святочной прозы
Полева Е. А., Байдагулова Т. А. Рассказ А. А. Солоницына «Маленькой ёлочке холодно зимой» в контексте традиции святочной прозы // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2021. Вып. 2. С. 31–37.
Святочный рассказ — это литературный жанр, который относится к категории календарной литературы — «особого рода текстов, потребление которых приурочивается к определенному календарному времени» [3] — и имеет специфику в сравнении с традиционным жанром рассказа. Главная особенность данного жанра — его каноничность, т. е. согласованность со сложившимися в литературной традиции устойчивыми жанровыми элементами — сюжетными (включая мотив-ную структуру), тематическими, композиционными, стилистическими и т. д. [9]
Действие написанного в 2008 г. рассказа Алексея Алексеевича Солоницына «Маленькой ёлочке холодно зимой» происходит накануне Нового года, что не соответствует главной характерной черте святочного произведения — его обязательной приуроченности к событиям рождественских праздников, т. е. периоду от Рождества Христова до Крещения Господня. Однако, как отмечал мастер и первый теоретик исследуемого жанра Н. С. Лесков, «святочный рассказ, находясь во всех его рамках, может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и нравы» [8]. Многие исследователи [1; 4; 6; 7; 9] сходятся во мнении о сосуществовании в святочных текстах различных культурных традиций: языческой, христианской и светской. Хронологическое смещение сюжетного времени с Рождества к Новому году в рассказе А. А. Солоницына объяснимо тем, что в советский период российской истории рождественский рассказ трансформировался в новогодний, с одной стороны, актуализируя фольклорную традицию (сказки о новогодних чудесах), с другой — сохраняя ряд атрибутивных признаков святочной прозы [9, с. 17–18].
Типологически рассказ А. А. Солоницына восходит к образцам святочной прозы XIX–XX вв. («Мальчик у Христа на елке» Ф. М. Достоевского, «Чудесный доктор» А. И. Куприна и др.), сохраняя традиционные черты жанра: установка на достоверность происходящих событий, образ несчастного ребёнка, находящегося в тяжелом положении, разворачивание действия в течение одних суток, прием ретроспекции, введение в повествование чудесного, христианско-нравственная проблематика.
Рассказ начинается с описания праздничной атмосферы украшенного к Новому году города: «Улица сияла огнями. Витрины кафе, ресторанов и магазинов тянулись одна за другой и празднично светились. <…> Все деревья, шеренгами стоящие вдоль тротуаров, были увешаны гирляндами разноцветных лампочек, которые переливались, создавая вокруг атмосферу радостного новогоднего праздника [10]. Контрастно, на фоне этого яркого, сияющего разноцветными огоньками мира возникает фигура ребенка — мальчика Коли Лепешкина, замерзающего, но отчего-то продолжающего бродить по улице мимо витрин с необычными игрушками.
Такая экспозиция сюжетных событий (всеобщее ожидание праздника) характерна для святочного рассказа. Характерен и герой-ребенок: он совсем один, он не является участником всеобщего праздника, ему настолько холодно, что нет сил даже рассматривать эти сверкающие витрины . Только у одной из них мальчик не может не остановиться, ведь там он увидел «ботинки на коньках, темносиние с красными кантами костюмы и картонных хоккеистов, скрестивших клюшки в борьбе за шайбу» [10].
Акцентируя внимание на коньках, автор вводит прием ретроспекции, восстанавливает прошлое героя: недавно Коля был успешным игроком хоккейной команды «Стрела», но эту единственную радость у него отняли: «стадион закатали в асфальт, вместо него устроив рынок» [10]. В повествовании этот факт отмечается не единожды, что указывает на семантическую значимость образа асфальта: это метафора города — каменного мешка, губящего все живое. Связь закрытия стадиона с трагичной судьбой мальчика позволяет прочитывать «закатали в асфальт» как фразеологизм в значении «убили, уничтожили», относящийся не к постройке, а к судьбе человека. Кроме того, замена стадиона на рынок 32
отражает иерархию ценностей общества: развитие детей менее важно, чем удовлетворение социально-биологических потребностей.
Как и почему мальчик перед самым праздником оказался на улице, в повествовании объясняется не сразу. История его жизни вводится постепенно, через краткие и отрывочные упоминания повествователем некоторых событий из его прошлого, через отдельные произнесенные героем фразы. Но типичность, узнаваемость ситуации не требует развернутых описаний: у Коли есть дом, семья, но жить в доме с родителями невозможно. У мальчика жестокий, часто избивающий жену и сына пьяница-отец и выпивающая вместе с отцом, слабая и зависящая от домашнего тирана мать. Альтернатива такому существованию, которую предлагает государство, — детский дом, оказаться в котором Коля боится. Вспоминая опыт пребывания там, он говорит: «…в детдоме так же, как в колонии, — непокорных бьют стаей, издеваются, а преподаватели с этим ничего поделать не могут» [10]. Страх оказаться в детдоме и предопределяет бродяжничество, положение бездомного.
Взрослые в святочной прозе обычно представляют собой толпу, не обращающую внимания на замерзающего и одинокого героя-ребенка. Но среди этой равнодушной толпы выделяется персонаж, который способен увидеть чужую беду и откликнуться на нее. Именно с неравнодушным Другим (гуманным по своей сути или внезапно прозревшим в Рождество) в ряде святочных рассказов связан жанрообразующий мотив чуда (например, «Чудесный доктор» А. Куприна, «Березовая елка» Е. Санина). В рассказе А. А. Солоницына такими взрослыми являются учительница Коли Марина Николаевна Крутикова и хозяин кафе армянин Марат. Знающие о ситуации в семье мальчика Марина Николаевна и Марат проявляют к нему сочувствие и собирают ему немного еды: учительница — яблоки и «самую лучшую грушу» , хозяин кафе — «пару готовых котлет и варёные картофелины» , а также остатки гуляша и несколько кусков хлеба для Дика, собаки Коли [10].
Эти две встречи объединяет устойчивый святочный мотив дарения, несущий важный смысл. Как отмечает Н. Н. Старыгина, с одной стороны, «процесс дарения является характерной и символической составляющей культурного феномена» [11, с. 39] — к такому феномену относится и Новый год, — а с другой стороны, он несет в себе сакральный смысл, формирует «христианскую концептосфе-ру (дар Божий, добро, милосердие, любовь, прощение, возрождение, спасение и др.)» [11, с. 54]. Учительница и хозяин кафе дарят мальчику в первую очередь свое внимание и заботу, и в этом проявляется духовная семантика мотива. Но и сама пища — тоже особый дар, который, во-первых, является необходимой помощью попавшему в трудную жизненную ситуацию ребенку, во-вторых, становится праздничным ужином для Коли и Дика, тем самым приобретая символическое ритуальное значение, которое не снимается тем, что такое дарение в рассказе не становится спасительным, не меняет трагическую траекторию земной жизни ребенка. В финале мальчик замерзает, что заостряет авторскую критику современного ему общества, в котором прекрасных учителей «оптимизируют», заставляют уйти из школы на рынок, не сформированы механизмы реальной помощи ни женщинам, ни детям, страдающим от семейного насилия, ни брошенным животным (собака Дик — единственный друг Коли, с которым он делит пищу и ночлег).
Мотив чуда, чудесного спасения, принципиальный для святочной литературы, возникает в развязке рассказа и связан с образом Николая Чудотворца. В первый раз герой встречает святого в Николин день, 19 декабря, когда мальчик впервые убежал из дома: «Дедушка неизвестно откуда появился, оказавшись прямо напротив Коли» [10]. Весь образ Николая Чудотворца, обращение к нему как к дедушке соотносится со сложившимся в сказках образом доброго волшебника Деда Мороза: «Бородка у него была седая, брови тоже седые, а глаза большие и голубые, как у Марины Николаевны. От дедушки исходило тепло, и Коля сразу же согрелся, хотя только что дрожал от холода, приткнувшись к спинке сиденья» [10]. Думается, А. Солоницын сознательно использует в описании внешнего облика более понятный современным детям образ Деда Мороза, но сущностно не подменяет им образ святого: имя, способность сотворить чудо, быть проводником к Иисусу указывает на Николая Чудотворца (вспомним, что на Западе Рождество также связано со Святым Николаем, Санта-Клаусом). Неизвестно откуда появившийся в электричке перед Колей святой каким-то образом знает, как зовут мальчика, а также куда и почему тот направляется и что его ждет по прибытии: « Знаю, да и не только про это» [10]. Когда к ним подходят контролеры, у дедушки Николая чудесным образом появляется билет и на Колю. Чудом для героя становится и добрый совет-предсказание святого: «Ты у тетки переночуй и возвращайся домой. Отец у тебя сам прощения попросит» [10], ведь всё так и происходит.
То, что герой — тезка святого, является значимым маркером авторской оценки мальчика. Бездомный, лишившийся опоры ребенок оказывается более нравственным, сильным духом, чем окружающие взрослые. Он не озлобился, и в отличие от разово помогающих ему взрослых он до последнего вздоха воплощает действенную ответственность за того, кого приручил. Добрые поступки мальчика подобны чуду, но в бытовом масштабе: он отдает свои хорошие коньки другу: «Коньки не жалко, пусть Серега катается» [10], лечит перебитую лапу Дика и заботится о нем, не давая умереть с голоду.
Эпизод первой встречи со святым дан ретроспективно и подготавливает повторную (финальную) встречу мальчика с Николаем Чудотворцем:
«…И вот сейчас, когда Коля спал, время от времени вздрагивая от холода, дедушка Николай явился ему снова.
Сразу стало теплее, и Коля перестал дрожать. Он улыбнулся ответно на улыбку дедушки.
– Вот классно, что вы пришли. А я думал, что больше вас никогда не увижу.
– Вставай, Николенька, нам пора идти.
Так его звала только мама — в то время, когда еще не пила» [10] .
«Дедушка Николай» оказывается проводником из мира мрака и холода, которым обернулась для маленького бродяги новогодняя ночь, в необыкновенное место, совсем не похожее на окружающую героя действительность. Здесь мальчик становится свидетелем множества самых разных чудес. Первое чудо происходит с дворнягой Диком, которого Коля забрал с собой: «Дик поднялся на все четыре лапы, даже на свою хромую, отряхнулся, стал гладким и чистым, и хвост загнулся дугой, а глаза засияли. И Коле даже показалось, что Дик улыбнулся» [10].
Герой оказывается на сверкающем серебром катке (в этом волшебном мире его не «закатали в асфальт»), в центре которого стояла огромная наряженная ел- 34
ка — важный атрибут святочного рассказа. Вокруг елки скользит множество счастливых детей, среди которых мальчик с удивлением замечает свою соседку Дашу Комарову, которая с самого рождения не может ходить: в этом чудесном месте девочка больше не инвалид, она прыгает выше всех и кружится на льду как настоящая фигуристка. Друг Коли протягивает ему его любимую клюшку — «ту самую, которую отец изрубил топором, надсаживаясь и рыча от ярости, потому что клюшка никак не разрубалась» [10]. Этой клюшкой Коля забрасывает победную шайбу. Видит мальчик и добрую учительницу Марину Николаевну, видит и свою маму, с которой тоже происходит чудо: она здесь «молодая, красивая, которую он помнил всегда, когда закрывал глаза и засыпал» [10].
Герой оказался в стране чудес, где все его заветные мечты осуществились. Коля обретает то, о чем мечтал, и на этом рассказ заканчивается. Но мотив чуда в рассказе имеет двойную семантизацию: сакральную и бытовую, реалистическую. Автор использует характерный для святочной прозы мотив сна: обе встречи с Николаем Чудотворцем происходят, когда герой спит, а значит, автором сохраняется допущение, что мальчик видел святого и его чудеса только во сне. Реалистическое объяснение чудес оформляет и трагическую модальность финала. Повествователь не говорит прямо о смерти ребенка, но его положение предопределяет однозначность: ночуя в холодном сарае в легкой куртке в сорокаградусный мороз, он умирает, замерзает: природный холод — метафора холода людских сердец.
Для того чтобы понять авторский замысел, обратимся к семантике заглавия, которое, по определению Л. С. Выготского, «несет в себе раскрытие самой важной темы, оно намечает ту доминанту, которая определяет собой все построение рассказа» [2, с. 204]. Заглавие рассказа отсылает к известной новогодней песенке, и в тексте рассказа строки из этой песенки тоже есть: «И тут он видит Марину Николаевну в легком белом платье с золотистыми звездами. И маму — ту, молодую, красивую, которую он помнил всегда, когда закрывал глаза и засыпал и когда каждый Новый год и на Рождество она пела ему:
Маленькой елочке холодно зимой,
Из лесу елочку взяли мы домой…» [10].
Композиционно эти строки возникают перед финальным эпизодом, описывающим главное Чудо в жизни мальчика — встречу с Иисусом Христом. Образы из детской песни соотносятся с сюжетом рассказа и его финалом метафорично: «маленькая елочка», которой «холодно зимой», — это Коля, герой-ребёнок, замерзающий на улице; «лес», относящийся «к числу таких явлений окружающей среды, в которой как нигде видна краткость индивидуального существования» [5, с. 168], — метафора земной жизни; а «дом», куда забирают «елочку», — это Царствие Небесное, где мальчик обретет долгожданное счастье и любовь.
Важно отметить, что развязка, воспринимаемая на бытовом уровне как трагическая, на бытийном уровне таковой не является: смерть становится для ребенка избавлением от земных страданий и началом новой жизни в Царствии Небесном вместе с Христом.
Проведенный анализ доказывает, что А. Солоницын сознательно продолжает традицию жанра рождественского рассказа, сохраняя основные его характеристики, и на вершину ценностной иерархии ставит единение человека с Богом и обретение спасения. Трагическое завершение земной жизни маленького героя 35
служит выражению мысли автора о кризисе милосердия, пагубном для духовнонравственной жизни современного общества, отходе от христианских заповедей.
Список литературы Рассказ А. А. Солоницына "Маленькой ёлочке холодно зимой" в контексте традиции святочной прозы
- Баран X. Поэтика русской литературы начала XX века. Москва, 1993. 368 с. Текст: непосредственный.
- Выготский Л. С. Психология искусства. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Москва: Искусство, 1968. 362 с. Текст: непосредственный.
- Душечкина Е. В. Святочный рассказ // Искусство. 2007. № 23. URL: https://art.1sept.ru/article.php?ID=200702305 (дата обращения: 16.03.2021). Текст: электронный.
- Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Вып. 3. Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. С. 249–261. Текст: непосредственный.
- Камалов Р. М. Образ леса в русской философской поэзии // Лесотехнический журнал. 2012. № 2. С. 167–173. Текст: непосредственный.
- Капустин Н. В. «Чужое слово» в прозе А. П. Чехова: жанровые трансформации: монография. Иваново: Изд-во Иван. гос. ун-та, 2003. 262 с. Текст: непосредственный.
- Кучерская М. А. Русский святочный рассказ и проблема канона в литературе нового времени: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва, 1997. 21 с. Текст: непосредственный.
- Лесков Н. С. Святочные рассказы. Москва, 1886. URL: https://modernlib.net/books/leskov_nikolay_semenovich/svyatochnie_rasskazi/read_17/ (дата обращения: 16.03.2021). Текст: электронный.
- Макаренко Е. К. История развития святочной словесности // Отечественная рождественская проза и поэзия XIX–XXI веков: хрестоматия с вопросами и заданиями / сост. Е. К. Макаренко, Е. А. Полева, Е. А. Сафонова. Томск: Изд-во Том. гос. пед. унта, 2018. С. 9–18. Текст: непосредственный.
- Солоницын А. А. Маленькой елочке холодно зимой. Самара, 2008. URL: https://благовестсамара.рф/-public_page_10676 (дата обращения: 16.03.2021). Текст: электронный.
- Старыгина Н. Н. Дарение: от устойчивого рождественского мотива к сквозному мотиву в святочных рассказах Н. С. Лескова // Проблемы исторической поэтики. Йош-кар-Ола, 2017. Т. 15, № 4. С. 38–58. Текст: непосредственный.