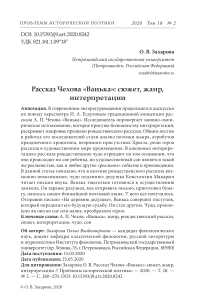Рассказ Чехова "Ванька": сюжет, жанр, интерпретации
Автор: Захарова Ольга Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В современном литературоведении продолжается дискуссия по поводу пересмотра И. А. Есауловым традиционной концепции рассказа А. П. Чехова «Ванька». Исследователь опровергает наивно-эмпирическое истолкование, которое присуще большинству интерпретаций, раскрывает жанровые признаки рождественского рассказа. Общим местом в работах его последователей стали анализ поэтики жанра, атрибутов праздничного хронотопа, незримого присутствия Христа, роли героя рассказа в художественном мире произведения. В школьных интерпретациях рассказа рождественское чудо отрицают на том основании, что оно происходит во сне ребенка, но художественный сон является такой же реальностью, как и любое другое «реальное» событие в произведении. В данной статье показано, что в поэтике рождественского рассказа возможно невозможное, чудо подлинно: дедушка Константин Макарыч читает письмо внука. Ванька тщательно готовился к осуществлению замысла. Он заранее разузнал, как отправить письмо, приготовил бумагу, написал, нашел ближайший почтовый ящик. У него все получилось. Отправив письмо «На деревню дедушке», Ванька совершил поступок, который определил его будущую судьбу. Он стал другим. Чудо, произошло ли оно во сне или наяву, преобразило героя.
А. П. Чехов, «Ванька», жанр, рождественский рассказ, сюжет, интерпретация, чудо, сон
Короткий адрес: https://sciup.org/147227197
IDR: 147227197 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2020.8242
Текст научной статьи Рассказ Чехова "Ванька": сюжет, жанр, интерпретации
Ч итательская судьба рассказа «Ванька» А. П. Чехова является, пожалуй, одной из самых прискорбных в русской литературе. С одной стороны, каждый взрослый человек читал его в школьные годы и помнит хотя бы одну фразу из рассказа, с другой стороны, такое «ученическое» прочтение дает превратное представление о его содержании.
Общей установкой в изучении произведения до сих пор является сопоставление «тяжкой доли» Ваньки Жукова и «счастливой», «сытой» жизни современного школьника. Вот типичные клише подобных интерпретаций: «“О чем” рассказ? О тяжкой доле мальчика “в людях”. Над ним насмехаются подмастерья, его бьют и не кормят хозяева, ему не дает спать хозяйский “ребятёнок” и т. п. Одновременно рассказ о наивности самого героя, не умеющего правильно написать адрес на конверте, в сознании которого “необыкновенно юркий и подвижный старикашка… с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами” является желанным избавителем. Таким образом, изображение и “жертвы” и ее “мучителей” должно, казалось бы, вызвать гнетущую атмосферу “идиотизма” русской жизни, несколько перефразировав социал-демократического классика» [Есаулов, 1998: 479].
Подобные трактовки рассказа доминировали в советской школе, сохраняются они и в современном преподавании литературы. Вот, например, вопросы, которые должны помочь школьнику и учителю понять смысл чеховского рассказа:
«1. Как вы относитесь к истории жизни Ваньки? Объясните свой ответ.
-
2. Как автор рассказывает о жизни мальчика? Что сообщает о нём? Найдите ответы в тексте рассказа.
-
3. Почему Ванька тосковал в городе? Что заставило мальчика послать письмо деду? Как Ванька рассказывает о Москве в письме деду?
4 * . Подготовьте краткий рассказ о Ваньке Жукове по плану.
-
5 * . Подготовьте выразительное чтение отрывка “А Москва город большой…”»1.
Традиция социально-критической интерпретации текста по-прежнему преобладает и в современном литературоведении, и в методических руководствах по преподаванию литературы. Выражение «На деревню дедушке»2 с различными отрицательными коннотациями не только вошло в корпус крылатых выражений русского языка, но и рассматривается подчас как «эмблематический код русской ментальности» [Кучукова, Берберова: 62].
Данные методические установки не учитывают главного в рассказе — его жанровой принадлежности. Чехов опубликовал рассказ «Ванька» 25 декабря 1886 г. в «Петербургской газете» в разделе «Рождественские рассказы». Дата публикации рассказа и его размещение в специальном, праздничном отделе указывают на его жанр, который противоречит школьным интерпретациям рассказа.
В 1998 г. пересмотр традиционных интерпретаций рассказа предпринял И. А. Есаулов. В статье «О некоторых особенностях рассказа А. П. Чехова “Ванька”» он писал, что жанр рождественского рассказа «совершенно преображает то внешнее “содержание”, к которому и сводят обычно “смысл” чеховского произведения. Перед нами сюжет о светлом рождественском чуде» [Есаулов, 1998: 480]. Газетный контекст публикации чеховского рассказа задает «определенные границы адекватных (но не обязательно одинаковых) прочтений произведения» [Есаулов, 1998: 480]. В его понимании значимы время и приметы праздника, икона («темный образ»), «молитвенная поза» героя, его «поздравление дедушки с Рождеством и пожелание “всего от Господа Бога”», «рождественская елка» и чудо [Есаулов, 1998: 481]. В наивно-реалистическом восприятии рассказа чуда не происходит, дедушка не получит письмо внука. В поэтике рождественского рассказа невозможное (чудо) возможно, оно подлинно в художественной реальности: «…настоящее время, сопровождающее это изображение и дополнительно придающее ему статус действительного, а не только возможного события» [Есаулов, 1998: 483].
Концепция И. А. Есаулова получила развитие в трудах некоторых исследователей ([Голод], [Макаров], [Черемисинова, Демиденко], [Козина] и др.)3, вызвала возражения В. В. Борисовой [Борисова], стала предметом острой полемики [Дунаев], [Есаулов, 2008].
В. В. Борисова критикует трактовку И. А. Есауловым «рождественского чуда» с эмпирической точки зрения. По ее мнению, чуда не было, был сон ребенка, а значит, и не было события [Борисова: 61–62].
Те же упреки в мистификации И. А. Есауловым рассказа высказал М. М. Дунаев. Свои возражения оппонент основывает на отрицании рождественского чуда в рассказе: «Задумаемся: что есть чудо? Это события или явления, которые противоречат естественно-земным законам нашей жизни. Можно ли усмотреть что-либо сверхъестественное в том, что Ванька видит такой сон? Ничего. Страстное желание мальчика рождает в нём надежду и вызывает соответствующее сновидение. Всё вполне естественно. Но не поэтично» [Дунаев]. В его истолковании «Константин Макарыч никогда не получит письма, и светлая надежда обернётся тьмою», дед «ничего не сделает для внука», «ребёнок переживёт тяжелейшее потрясение, ощущение оставленности, заброшенности», «сон обретает трагическую безысходность» [Дунаев].
Отвечая на эту критику, И. А. Есаулов видит причину непонимания М. М. Дунаевым чеховского рассказа в том, «что он не отличает художественную реальность от реальности нехудожественной» [Есаулов, 2008: 650], не понимает эстетической природы сна в литературе: «…изображение сна в литературе далеко не то же самое, что сон в реальной жизни. Если во внехудожественной действительности сон может не значить ровным счетом ничего, то в художественном мире сон — всегда событие » [Есаулов, 2008: 650].
В литературе сны столь же реальны, как и вымышленные «эмпирические» события, они принадлежат художественной реальности, фантастическое и чудесное реальны в художественном мире произведения [Есаулов, 2008: 648–651], [Есаулов, 2016: 53–54], [Захаров, 2016: 20].
И. А. Есаулов подчеркивает, что «в пределах той реальности, которую создает (а не только лишь “изображает” Чехов, в его художественном мире невозможное, как представляется, чудо как раз происходит» [Есаулов, 2016: 53]. Рассказ завершается описанием чуда, случившегося в рождественскую ночь: «Рождественская “встреча” дедушки и внука, таким образом, состоялась — в единственно возможном для этой встречи поэтическом космосе произведения» [Есаулов, 1998: 482] (см. также: [Есаулов, 2004: 56]).
Принципиальное значение в адекватном понимании рассказа имеет его жанр, с которым не считаются и который отрицают оппоненты Ивана Андреевича: «…сама “память жанра” рождественского рассказа предполагает чудо : и описанием этого невозможного, казалось бы, чуда, происходящего в реальности сна (а не описанием адреса получателя) и завершается рассказ: “дедушка не только получает письмо”, но и, “свесив босые ноги” с печки, “читает письмо кухаркам”» [Есаулов, 2008: 650].
Камнем преткновения в интерпретации рассказа является проблема разграничения и неразличения рождественского и святочного рассказа ([Старыгина], [Душечкина, Баран], [Захаров, 1994], [Душечкина], [Новикова], [Черемисинова, Демиденко], [Дмитренко] и др.). Их часто отождествляют, но это разные жанры календарной прозы: один приурочен к Рождеству, второй — к Святкам (от Рождества до Богоявления) [Захаров, 1998: 18–19] и др.
Попытка разграничить рождественские и святочные рассказы предпринята Т. Н. Козиной, которая, опираясь на теоретические положения И. А. Есаулова [Есаулов, 2004: 64–70], дала критический анализ исследований, в которых не различаются рождественские и святочные рассказы, описала их отличительные признаки [Козина: 140–144].
Многие исследователи приняли трактовку И. А. Есауловым жанра чеховского рассказа «Ванька» как рождественского ([Голод], [Макаров], [Черемисинова, Демиденко] и др.). Общим местом в их работах стали указание на признаки жанра и атрибуты праздничного времени в тексте, на незримое присутствие Христа в художественном мире рассказа. Есть в этих работах оригинальные суждения, которые развивают концепцию И. А. Есаулова.
Соглашаясь с утверждением, что чудо происходит в границах художественного произведения, в пределах художественной реальности, Д. В. Макаров приводит интересные сведения о возможности невозможного: «…Сам Бог сотворил чудо, и дедушка получил еще не отправленное и даже не написанное письмо внука. А это могло произойти, тем более, что такие случаи бывали в действительности. В жизнеописаниях Оп-тинских старцев есть такие случаи, когда люди, писавшие им письма, получали ответы на те вопросы, которые еще не успели отправить. Чехов мог слышать об этом» [Макаров: 173]. В подтверждение этого тезиса вспомним литературный факт, который мог быть знаком А. П. Чехову. В романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» унтер-офицерская вдова Прохоровна спрашивает у старца Зосимы совета, можно ли помянуть за упокой пропавшего сына. Старец порицает Прохоровну даже за мысли об этом и утешает: «…или сам он к тебе вскоре обратно прибудет, сынок твой, или наверное письмо пришлет. Ты так и знай. Ступай и отселе покойна будь. Жив твой сынок, говорю тебе»4. Предсказание сбылось: вдова получила письмо, о чем Алеше сообщает госпожа Хохлакова, прося рассказать монастырской братии о свершившемся «чуде предсказания»: «…“пророчество совершилось даже буквально, и даже более того”. Едва лишь старушка вернулась домой как ей тотчас же передали уже ожидавшее ее письмо из Сибири. Но этого еще мало: в письме этом, писанном с дороги, из Екатеринбурга, Вася уведомлял свою мать что едет сам в Россию, возвращается с одним чиновником, и что недели чрез три по получении письма сего “он надеется обнять свою мать”»5.
При интерпретации чеховского рассказа важно учитывать, как воспринимает происходящее герой. Ванька выбрал для написания письма дедушке Рождественскую ночь. Он готовился к этому, ждал, заранее разузнал у сидельцев в мясной лавке, как необходимо поступить с письмом, нашел ближайший почтовый ящик. Он тщательно готовится к осуществлению своего замысла. У него все получилось: он остался один в Рождественскую ночь, ему не помешали написать и отправить письмо. Ванька крепко засыпает, «убаюканный сладкими надеждами». Вера в то, что эти надежды сбудутся, обнаруживается и в тексте письма. Герой дает наказ дедушке, как поступить с золоченным орехом: «в зеленый сундучок спрячь», не отдавать никому «гармонию мою». Он знает, что вернется в деревню, будет дружить с барышней Ольгой Игнатьевной, заботиться о деде.
Жанр диктует спектр адекватной интерпретации рассказа. Он отрицает его школьное прочтение. В рождественском рассказе адрес «На деревню дедушке» правилен, письмо не только дойдет — оно доходит до адресата. Чудо случилось. В его реальность трудно поверить. Оно невозможно в эмпирическом, но состоялось в художественном мире. Ванька написал письмо, он совершил поступок, который определил его будущую судьбу. Он стал другим. Следуя смыслу Праздника, он готов заботиться о ближнем — о каждом, кому нужна помощь.
Примечания
-
1 Литературное чтение: учебник для 3 класса: в 2 ч. / под ред. Л. А. Еф-росининой. М.: Вентана-Граф, 2016. Ч. 1. С. 173.
-
2 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. Письма: в 12 т. М.: Наука, 1976. Т. 5: Сочинения. 1886. С. 481.
-
3 Странное впечатление производит статья Т. Г. Фирсовой «Изучение святочного рассказа в начальной школе», в которой концепция И. А. Есаулова излагается без ссылок на труды ученого [Фирсова: 459–461].
-
4 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 18 т. М.: Воскресенье, 2004. Т. 13: Роман «Братья Карамазовы», 1879–1880 гг. С. 45.
-
5 Там же. С. 137.
Список литературы Рассказ Чехова "Ванька": сюжет, жанр, интерпретации
- Борисова В. В. Малая проза Ф. М. Достоевского: принцип эмблемы. — Уфа: Изд-во БГПУ, 2011. — 144 с.
- Голод М. А. «Ванька» А. П. Чехова как рождественский рассказ // Вестник Алтайской государственной педагогической академии: студенческие и магистерские работы. — 2009. — № 1. — С. 78-80.
- Дмитренко С. Ф. Рождественские и пасхальные темы в литературном наследии Ю. П. Миролюбова // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. — Вып. 13: Актуальные аспекты. — С. 629-646 [Электронный ресурс]. — URL: poetica.pro/files/ redaktor_pdf/ 1456475296.pdf (12.01.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2015.3001
- Дунаев М. М. Виртуальное литературоведение // Дунаев М. М.: официальный сайт [Электронный ресурс]. — URL: http://mdunaev.ru/stati/ virtualnoe-literaturovedenie (12.01.2020).
- Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ: становление жанра. — СПб.: Издательский отдел Языкового центра СПбГУ, 1995. — 256 с.
- Душечкина Е. В., Баран Х. «Настали вечера народного веселья»: предисловие // Чудо рождественской ночи: святочные рассказы. — СПб.: Худож. лит., 1993. — С. 5-32.
- Есаулов И. А. О некоторых особенностях рассказа А. П. Чехова «Ванька» // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. — Вып. 5. — С. 479-483 [Электронный ресурс]. — URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2544 (12.01.2020). DOI: 10.15393/ j9.art.1998.2544
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. — М.: Кругъ, 2004. — 560 с.
- Есаулов И. А. О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догматического начетничества в изучении русской литературы // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. — Вып. 8. — С. 606-660 [Электронный ресурс]. — URL: https://poetica.pro/ journal/article.php?id=3471 (12.01.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2008.3471
- Есаулов И. А. Фантастическое — чудесное — реальное в поэтике и прозаическая реальность литературоведения: постановка проблемы // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. — Вып. 4: Поэтика фантастического. — С. 53-71 [Электронный ресурс]. — URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482751973.pdf (12.01.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2016.3744
- Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. — Вып. 3. — С. 249-261 [Электронный ресурс]. — URL: https:// poetica.pro/journal/article.php?id=2403 (12.01.2020). DOI: 10.15393/ j9.art.1994.2403
- Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. — Вып. 5. — С. 5-30 [Электронный ресурс]. — URL: https://poetica. pro/journal/article.php?id=2472 (12.01.2020). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2472
- Захаров В. Н. Фантастическое: аксиомы, парадоксы, проблемы // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. — Вып. 4: Поэтика фантастического. — С. 7-26 [Электронный ресурс]. — URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482751637.pdf (12.01.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2016.4021
- Козина Т. Н. Жанровое своеобразие рождественского и святочного рассказов // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. — 2017. — Т. 23. — № 4 (168). — С. 137-144.
- Кучукова З. А., Берберова Л. Б. «На деревню дедушке»: некоторые особенности русской ментальности (на материале рассказов А. П. Чехова) // Научные известия. — 2019. — № 16. — С. 60-67.
- Макаров Д. В. Евангельский контекст и поэтика рождественского рассказа // Казанская наука. Филологические науки. — 2012. — № 7. — С. 171-173.
- Новикова А. А. «Настали святки. То-то радость!» Русский святочный рассказ: эстетика и поэтика жанра // Литература в школе. — 2009. — № 1. — С. 12-17.
- Старыгина Н. Н. Святочный рассказ как жанр // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. — Вып. 2: Художественные и научные категории. — С. 113-127 [Электронный ресурс]. — URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2365 (12.01.2020). DOI: 10.15393/j9.art.1992.2365
- Фирсова Т. Г. Изучение святочного рассказа в начальной школе // Межрегиональные Пименовские чтения. — 2014. — Т. 11. — № 11. — С. 453-463.
- Черемисинова Л. И., Демиденко Л. Н. Рождественский текст на уроках литературного чтения // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. — 2014. — № 4-3. — С. 204-208.