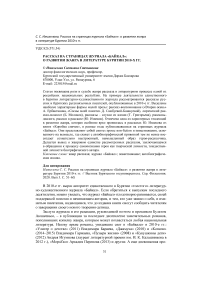Рассказ на страницах журнала «Байкал»: о развитии жанра в литературе Бурятии 2010-х гг
Автор: Имихелова Светлана Степановна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена роли и судьбе жанра рассказа в литературном процессе одной из российских национальных республик. На примере деятельности единственного в Бурятии литературно-художественного журнала рассматриваются рассказы русских и бурятских русскоязычных писателей, опубликованные в 2010-е гг. Выделены наиболее характерные формы малой прозы: рассказ-воспоминание («Вторая осень» А. Ербактанова, «Сосны моей памяти» Д. Самбуевой-Башкуевой), лирический рассказ-монолог (Б. Молонов), рассказы - случаи из жизни (Т. Григорьева), рассказы-диалоги, рассказ в рассказе (Ю. Извеков). Отмечена одна из характерных тенденций в развитии жанра, которая особенно ярко проявилась в рассказах Ю. Извекова из книги «Коробка спичек», в разные годы публиковавшихся на страницах журнала «Байкал». Они представляют собой синтез прозы non-fiction и повествования, основанного на вымысле, где сюжет с автобиографической привязкой тем не менее воссоздает сознательно выстроенный, вымышленный образ героя-рассказчика. Делается вывод о жанровом единстве рассмотренных рассказов, заключающемся в обращении к процессу самопознания героя как творческой личности, тождественной личности биографического автора.
Жанр рассказа, журнал «байкал», повествование, автобиографическая основа
Короткий адрес: https://sciup.org/148316619
IDR: 148316619 | УДК: 821(571.54)
Текст научной статьи Рассказ на страницах журнала «Байкал»: о развитии жанра в литературе Бурятии 2010-х гг
Имихелова С. С. Рассказ на страницах журнала «Байкал»: о развитии жанра в литературе Бурятии 2010-х гг. // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 3. С. 51–60.
В 2010-е гг. вырос авторитет единственного в Бурятии «толстого» литературно-художественного журнала «Байкал». Если обратиться к выпускам последнего десятилетия, можно увидеть, что журнал «Байкал» плодотворно развивается, своей поддержкой помогая и начинающим авторам, и тем, кто уже заявил о себе, и именитым писателям, надеющимся, что до издания книги смогут сообщить читателям о завершении своего нового творения-детища.
Заслуга журнала и его редакции, руководимой поэтом и прозаиком Булатом Аюшеевым, – в публикации за последнее десятилетие замечательных романов, пополнивших копилку жанра, которым может похвастаться любая национальная литература. Назову яркие романы, увидевшие свет в «Байкале» в 2010-е гг.: «Улигер о детстве» (2011) Владимира Бараева, «Джамуха» (2010) и «Копачи» (2014–2015) Владимира Гармаева, «Пузыри жизни» (2008) и «Кукушкины дети» (2012) Андрея Игумнова (лауреат литературной премии им. И. К. Калашникова в 2012 г.), «МороZко» Аркадия Перенова (2013) и другие. А еще дневниковая про- за Баира Дугарова, которая тянет на настоящий роман, - его теперь уже знаменитая книга «Сутра мгновений» (2010).
Немаловажная роль журнала - в открытии новых имен, публикации произведений еще никому не известных авторов. Если перечислять этих авторов только в прозе и восхищаться необычайной свежестью их повестей и рассказов, получится внушительный список. Из наиболее запомнившихся читателям журнала следует назвать, например, Болота Ширибазарова: его дебют как прозаика состоялся на страницах журнала повестью «Волчьи тропы» (2016), затем были повесть «Метис» и роман «Мотылек в паутине». До этого был известен в театральных кругах как драматург, а их чрезвычайно мало в российских национальных литературах, автор пьес в жанре черной комедии (его лучшая пьеса «Курочка» опубликована в «Байкале» в 2014 г.). Еще новое имя - Булат Моло-нов, автор книги «Танец орла», благодаря которой стал лауреатом литературной премии имени Исая Калашникова в 2016 г. и рассказы из которой начал публиковать в журнале с 2008 г. Дебют нового прозаика Даримы Самбуевой-Башкуевой состоялся в «Байкале» в 2012 г., а в 2019 г. она получила премию в номинации за лучший рассказ. Петр Мананников именно в последние 10 лет опубликовал свои ставшие известными криминальные повести, среди которых лучшая - «Империя меха» (2010). Многие авторы издали не одну книгу произведений, публиковавшихся в журнале, - Юрий Извеков, Николай Хосомоев, Аркадий Перенов, Булат Молонов, Виктор Костригин, Татьяна Хамаганова, Эдуард Бочкин и другие. А если еще учитывать поэтические подборки или новые рубрики «Народные страницы», «Неформат», «Читальный зал», приложение для начинающих авторов «Омулевая бочка», можно говорить о значительной роли единственного журнала-«толстяка» в литературной жизни республики.
Большое место в прозаической рубрике занимают рассказы. Этот жанр может свидетельствовать о плодотворном развитии литературного процесса в республике. Редакция журнала вносит в развитие этого жанра свой существенный вклад потому, что публикует разнообразные виды малой эпической формы как русских, так и бурятских русскоязычных писателей. С одного такого образца хотелось бы начать разговор - это рассказ «Вторая осень» Александра Ербактано-ва, чей дебют в журнале состоялся в 2014 г. А в 2015 г. автор прислал рассказ, представляющий собой очень интересное и многоплановое повествование, где изображение бытовой повседневности выявило самые разные нарративы: подробное описание окружающего природного и предметного мира, лирические воспоминания, полные молодого любовного томления, интеллектуальные размышления, особенно в самом начале - в виде философской преамбулы. В пространственном аспекте здесь находится место и реальности воспоминаний, и сновидениям о молодости, и ретроспективному рассказу о встреченных людях, о любви, и настоящему времени повествования, которое, по отношению к ретроспекциям, есть будущее… Имеются и великолепные поэтические зарисовки, где выделяется разговор среди ночи под небом, опустившимся на землю, на земном корабле, вознесшемся к звездам. А в центре - рассказ-воспоминание о старухе по имени Фенька, живущей в домишке при морге областной клинической больницы, где герой-рассказчик, будучи студентом-старшекурсником медицинского института, несет дежурство раз в три дня.
Повествование в рассказе ведется от лица героя-медика, вспоминающего далекую молодость, способного не только переноситься из настоящего в прошлое, но и заглядывать в более позднее будущее, а в интимной жизни бытовую встречу с земной женщиной окутывать романтичной дымкой любовного свидания с женщиной почти неземной по имени Таня. И это перволичное письмо в рассказе воспринимается как автобиографическое, настолько герой-рассказчик субъективно сливается в восприятии читателя с обликом реального человека, написавшего этот рассказ.
В рассказе «Вторая осень» (судя по названию, речь идет, видимо, не только о времени года в момент письма, но о времени осени в судьбе человека) читателю необходимо соединить лиризм героя-рассказчика - интеллектуала и поэта, врача и литератора с эпичностью рассказанной истории о старухе Феньке, которая заболела из-за чувства вины перед умершим мужчиной, поступившим в морг. А уж кто был виноват перед Фенькой, так этот умерший, оказавшийся гориспол-комовским работником Новиковым. Это он обманул бедную старуху, чья очередь на квартиру подошла, но ее отфутболивают, обещают, обманывают, чтобы обойти в праве на квартиру в новом доме. И главному исполкомовскому обидчику, хитростью отделавшемуся от старухи, предлагавшему зайти через две недели, тогда как дом уже заселялся, Фенька пригрозила: «Смотри, Новиков, обманешь -глотку разгрызу». И вот через два дня с ужасом и возгласом «Господи, прости» обнаружила на носилках мертвого Новикова - и заболела. Герой-рассказчик выхаживает больную и после дежурства заходит в зал морга: «…откинул простыню с трупа Новикова, взглянул на шею. Потом, задернув простыню, быстро вышел» [1, с. 53]. И больше, без каких-либо пояснений, почему так сделал. Думается, шея была чистая, совсем как ранее вспомнившаяся шея любимой девушки, однокурсницы Тани, которая «нежно голубела». Но в этом жесте героя так много подтекста: тут и знание врачебного диагноза наступившей смерти - анафилактический шок (простыми словами, приступ удушья от аллергии), и мистическое чувство от сбывшейся Фенькиной угрозы, и человеческое осознание справедливости неизбежного наказания. Но больше, думается, его волнует мысль о болезни бедной совестливой старухи, от которой она вскоре умрет. И снова память подсказывает герою: вскрывавший ее патологоанатом - «пьяница и балагур» воскликнет: «Эх, Фенька, черти б тебя забрали, если б я не обещал когда-то тебя вскрыть. Ну, да ладно. Бог простит» [1, с. 54]. И тут же рядом - упоминание о замужестве Тани.
В начале рассказа герой, достигший, видимо, преклонного возраста, обещает читателю облечь свою работу памяти, связанную в том числе с болезнью, свои мысли, сумбурные и спутанные, в какую-никакую последовательность. Что ж, у него получилось сделать это превосходно. Удивляет дата написания - 1995 г., а значит, к моменту опубликования в журнале рассказу исполнилось 20 лет. А еще и сами события, произошедшие в воспоминаниях героя, были 25-летней давности. И этой ностальгической атмосферой окутан весь рассказ. Запечатленное в нем время превращает его в историческое повествование, и в этом тоже кроется несомненное очарование данной журнальной публикации.
Подлинным открытием в литпроцессе последних лет следует назвать прозу Булата Молонова. И это не только его изданная в 2014 г. книга рассказов «Мобy. Танец орла», которая принесла ему звание лауреата конкурса имени И. К. Ка- лашникова, но и рассказы, рассыпанные по Интернету и в пространстве блогосферы, и, конечно же, часто публикующиеся на страницах журнала «Байкал». Восхищение у читателя может вызвать работа писателя над жанром рассказа в форме лирического монолога автобиографического героя. Это молодой человек, часто разлученный с родиной-Бурятией, родным языком, любимой женщиной, умершим другом и потому испытывающий страшный дискомфорт. Сознание этого героя и движет сюжет, фабулу, удваивает изображенное пространство-время, что придает герою романный вид. То есть книгу «Танец орла» можно назвать романом в рассказах, так эффектно представленным в романе «Грех» яркого русского писателя Захара Прилепина, лауреата и Букера, и Большой книги, и Нацбеста - всех главных литературных премий, какие существуют в современной России. Но и в Бурятии в такой же форме, развивая такую же тенденцию, вполне оригинально работает самобытный писатель.
Вот, к примеру, фрагмент из рассказа «Город смерти»:
«Моя хγгшэн эжэн, провожая меня, дала мне хантас, который сшила для меня, чтобы я не замерзал зимними вечерами. А теперь ее уже нет в живых, умерла. Этой осенью ездили по Улаанбаатару на такси, зажигали в ночных клубах, смеялись и веселились, ели буузы, сансар бууза - космические буузы. А вчера звонят и говорят: “Олега умер”. Убили. Поздравление с днем рождения прилетело из Москвы от любимой одноклассницы, летом должны были встретиться и отпраздновать ее кандидатство, не получилось со временем. А осенью звонят: “Ирка умерла”. Опухоль мозга. Встречаю родню по юности: “Зда-а-аро-о-ва!”, “Хали-бали!”, “Ай-уй-Саянтуй!”, “Хай-вай Тарбагатай!”, “Как делишки? Что нового? Как Макс поживает?”. В ответ: “Макс умер”.
Сидим, курим, уже без всяких ай-уй и хай-ваев. Передоз. Я как-то необыкновенно остро ощутил, как из меня вытекает жизнь. Я не смогу точно сказать, что в будущем году или через четыре года сделаю что-либо, откуда я могу знать, что я буду жив? “Песен еще недописанных сколько? Скажи, кукушка... Пропой!” - Цой.
Посмотрите в Вечное Синее Небо! Вы увидите сотни больших и тысячи маленьких птиц, как бы высоко они ни летали, все они летят в Город Смерти. Они придут туда в полном неведении о месте и времени своей смерти и в полном одиночестве, и поэтому необходимо искать Прибежища у Великого Сочувствующего и повторять его шестислоговую мантру - Ом Мани Пад Ме Хум!» [3, с. 65-66].
Конечно, обращаешь внимание на оригинальное словоупотребление, иллюзию разговорного синтаксиса, постоянное использование бурятских выражений, молодежного сленга, цитат из песен рок-кумиров, но главное достоинство - это все-таки пронзительная рефлексия, вызывающая у читателя соответственный отклик, будь то взволнованный голос влюбленного оптимиста или страстное обращение к Богу человека, страдающего от невыносимого трагизма бытия. Эту манеру рассказывания хочется дотошно анализировать, чтобы объяснить ее необычайное обаяние, особое воздействие на твое читательское самочувствие. Видимо, разговор об интересном явлении в нашей литературной жизни еще нуждается в специальном исследовании, к тому же писатель еще молод и все у него впереди.
Еще один автор рассказов, тоже лауреат калашниковской литературной премии 2019 г. - Юрий Извеков, личность известная в художественных кругах Улан-Удэ: он не раз выставлял свои живописные и фотоработы, издавал сборники сти- хотворений, но издавал их, по своей оригинальности нетрадиционных и даже одиозных, настолько малочисленным тиражом, что причислялся к андеграундному искусству, арт-искусству, адресованному лишь немногим искушенным читателям. О причинах неожиданной, по мнению не знающих его творчество, победы в конкурсе станет понятно, когда открываешь книгу стихов и прозы «Коробка спичек», такой увесистый том, то попадаешь под неотразимое воздействие личности автора. Он, кстати, изображен на обложке со странным указателем в виде стрелки с двумя концами: Я и не-Я, тем самым намекая, что именно таким двойственным образом явлен автор в книге: автобиографический, совпадающий с «собой любимым», и в то же время сознательно выстроенный, вымышленный как образ героя-рассказчика по имени Юрий Извеков. Многие рассказы в своем подлинно жанровом выражении, даже если они в форме диалога, даже если это диалог героя с самим собой или монолог в духе стихотворений в прозе, не раз публиковались на страницах журнала «Байкал». Иногда это записи по случаю, мысли вслух, напоминающие форму розановских «опавших листьев» или тер-цевских «прогулок» с классиком, но обязательно воспринимающиеся как некий цикл.
Строится цикл рассказов вразброс, их последовательность вовсе не временная, обеспечена именно внутренним сюжетом, причудливой рефлексией автора. Например, несколько идущих следом друг за другом минирассказов могут быть связаны темой детства или мотивом творчества, но и в этом случае цикл движется работой сознания и памяти, выстраивающей линию жизни в единстве разных периодов - от детства до сегодняшнего дня. На первый взгляд, в цикле отразилась жизнь не только самого героя-автора, но целого поколения, к которому он принадлежит, - людей, живущих в городе Улан-Удэ с его достопримечательностями - это горсад с его «нефонтанирующим фонтаном», кинотеатр «Прогресс» с мимикрией своего внутреннего содержания, книжные магазины и забегаловки, адреса коих постоянно менялись на протяжении полувека; людей, читавших одни и те же книги, ценивших одни и те же песни, анекдоты, кинофильмы, переживших 60-е, 80-е, 90-е, совершавших поездки-набеги из Улан-Удэ в Иркутск или Тунку и Джиду и т. д. Это особое поколение, выходящее за пределы локальной привязанности. Сегодня его можно идентифицировать по цитатам из Маяковского, Высоцкого, из песен Битлз, из серьезных книг серьезных авторов, по признанию в неприязни к Дюма и другим литературным поделкам. Герой может и не называть автора очередной цитаты, но он обращается к читателям, которые, он знает, поймут его с полуслова или между строк. К этому поколению относятся друзья писателя, иногда жена, с которыми он и ведет диалоги.
Можно перечислять темы, сюжеты книги, но больше всего на мысль наводит жанровое своеобразие коротких рассказов, поскольку каждый рассказ в каждом случае предстает в совершенно новом виде. Часто это полуанекдоты (прав теоретик В. И. Тюпа, утверждающий родство рассказа с жанром анекдота), это и стихотворения в прозе с особым лиризмом и исповедальной серьезностью, а то и смешные, комичные до невозможности случаи и мысли по поводу этих случаев в стиле Хармса (здесь и бахтинский карнавал пригодился бы, например, в разговоре о восхитительных воспоминаниях героя о машине детства - говновозке). Это типично мужская проза со своим сленгом, пристрастием к спиртным напиткам в духе Венички, героя Вен. Ерофеева, часто с сознательным педалированием табуированных тем или неформальной лексики (кому-то покажется чрезмерной, но читателю, настроившемуся на волну автора, как раз в меру). И еще это поэт, посвящающий стихи и прозу теме творчества – излюбленной теме русской литературы.
Важно выделить удивление героя людскими характерами, в которых он найдет массу парадоксального или выбивающегося из стереотипного ряда. Например, рассказ «Про колхозы», где герой передает услышанное в беседе с 90летней старухой из семейского села Тарбагатай о том, что коллективизация в корне изменила жизнь ее земляков, что именно тогда «мы только жить начали, свет белый увидели, ну, богаче до революции жили, денег в сундуках много было, наряды богаче. А как нам работать приходилось, мы же летом почти и не спали, всё работали и из деревни никуда не выезжали, а в колхозе мы хоть вздохнули свободно, у нас и выходные появились, и отпуска, да я один раз на курорт ездила на море и еще в Москву на выставку. С хором там выступали. А в хоре нам только после революции петь свободно разрешили, раньше попы да уставщики нас гоняли за это, а в больнице меня лечили, а грамоте учили, а сколько детей тогда маленькими умирали...» [2, с. 215]. Герой-рассказчик, напоминая, что коллективизация проходила в этом большом богатом селе так жестоко, что после расстрелов и высылок опустели две улицы, резюмирует: «Так что не всё так просто с колхозами». Этот рассказ в рассказе показателен для прозы Извекова, согласуясь с принципом демократизма и гуманной отзывчивостью ге-роя/автора.
Необычайное обаяние прозы Юрия Извекова заключено в той мозаичности, с которой переданы детали повседневной жизни 60–70-х и особенно 80–90-х, да и сегодняшнего дня, от лица как будто простого работяги, обладающего прекрасной памятью, хулигана-озорника, часто находящегося под градусом и грезящего о какой-то высокой сфере жизни, но остающегося в иной сфере, которую характеризует в одном месте: «так, закоулочки», а в другом – «помойка жизни». И совсем не удивится читатель тому, что такой герой наделен талантом писательства, зрением живописца, верой в свою задачу следования творческому долгу. Он еще и фотохудожник, и еще знаток городского фольклора и собиратель народной мудрости, к тому же часто предстает как иронист-постмодернист, пишущий, например, о Пушкине в духе Хармса. И в то же время, что тоже неудивительно, тяготеет к эпической теме, как и упомянутые им герои из романов «Тихий Дон» и «Доктор Живаго».
Вот почему за ликами героя-рассказчика, за всей мозаикой потока сознания и движений его памяти открывается само Время, и, пусть не звучит пафосно (пафос вообще чужероден книге, если и есть, то сдобрен изрядной долей иронии), в рассказах предстает сама История. Именно она во всей красе звучит из уст «свидетеля счастливого», причастного к жизни своих соотечественников, который говорит, на первый взгляд, только о себе и от себя, а на самом деле – о чем-то большем и очень важном. И за всем этим встает реальный облик автора, который многое знает о жизни и который это знание, на первый взгляд, бытовое, по-обыденному простое, умеет выразить так образно и многозначительно, так остроумно и так весело, что делает тебя, читателя, соучастником и сомышленником писателя.
Журнал публикует и так называемую женскую прозу, – написанную женщинами и повествующую о судьбе современной женщины. Есть очень даже оригинальные экземпляры такой прозы. Например, очень запомнился рассказ Татьяны Григорьевой «День рождения», опубликованный в журнале в 2009 г. Героиня Инесса Петушкова обладает замечательным чувством юмора, таким, что убедившаяся в нем приглашенная в гости начальница восхитилась этим качеством, назвав его предприимчивостью, и даже выписала героине премию.
Удачным представляется рассказ «Виртуальная игра для одиноких женщин» (2011, № 4), в котором повествование и образ повествователя пронизаны сознанием героини с несостоявшейся личной жизнью так, что ощущение монологической речи позволяет обойтись без комментариев типа «она подумала», «она почувствовала», потому что многое, что подумала или почувствовала Инга, не дается прямо, а оставлено между строк автором, который вполне полагается на своего читателя. И потому рассказанная история о созданной «старым другом» героини Васей, «старым во всех смыслах», компьютерная игра, которая будет опробована на Инге, понятна читателю/читательнице и воспроизведет тайные желания одинокой женщины. А они известны не только Васе, но именно он доподлинно знает их на примере подруги, которая, как сказано в начале рассказа, потратила три года, «бесценные три года» своей жизни на роман с другом Васи Олегом вместо того, чтобы дождаться признания от Васи, который свою любовь к ней прятал, «как партизан», родить детей от него и т. д. Инга включится в бизнес по сочинению Васей виртуальных игр, пока он не сочинит игру для одинокой женщины. Вася воспроизведет в ней встречу Инги с мужчиной, «аккуратным, элегантным», с красивой улыбкой – мечтой любой одинокой женщины, в виртуальной квартире в том дизайне и цветовой гамме, которые так нравились Инге. И часто обрываясь, события виртуальной игры несколько раз будут останавливаться на самом желанном, мечтаемом – из-за ошибок Инги, чтобы вовсе не остановиться. Пока оказавшийся в настоящей реальности Вася в халате и стоптанных тапочках не объяснит, что Инга безошибочно продержалась 15 часов, но во всем коттеджном поселке неожиданно погас свет. И на вопрос Инги: «а если бы я продержалась без ошибок всю жизнь?», зло ответит: «Не знаю!». И друзья, соратники по бизнесу, поссорятся, вероятно, навсегда.
Пересказ не передает всей прелести рассказа Т. Григорьевой, где изображение, вернее, воссоздание Васей виртуальной реальности приведет к иллюзии проживания в ней героини, воспринимающей эту иллюзию как вполне совершившуюся реальность. Так автор воплотила очень оригинальный, даже блистательный замысел одной и той же вечной темы о поиске женского счастья, которую решает беллетристика на всех языках мира.
Много на страницах журнала рассказов автобиографических, как из рога изобилия они сыплются сегодня. Интересно их читать. Татьяна Григорьева о своей богатой событиями жизни, о родных, коллегах, друзьях, о себе создала цикл «Милый доктор» (2017, № 3). Создала то ли из кирпичиков-фрагментов, то ли из кубиков с картинками, какие были в ее детстве, научившие ее в три года читать. К тому же придумала оригинальный жанр, наполненный превосходным юмором, – с ним у писательницы, как всегда, в порядке. В основном это истории из собственной биографии, случаи из жизни, надолго врезавшиеся в память.
С памятью у автора тоже все в порядке, хотя в одном из рассказов ее героиня позавидовала маленькой девочке, у которой память оказалась куда как крепкой: на шутку о разведенных «ползучих» растениях в комнате студенческого общежития: «Лианы и две обезьяны» (так и рассказ называется), поверила в существование реальных обезьян, потому что шутница, какой и была по жизни автор-рассказчица, отвечала, что сегодня их нет дома. Позже девчушка заставила маму зайти в общагу: «А что, обезьян опять нет?» – спросила. И снова шутница ответствовала, что зима холодная и они решили уехать в Африку навсегда. И еще два года получала просьбу передать привет обезьянам. Теперь понимаю, что классным детским писателем Татьяна Григорьева стала благодаря свойствам своего характера, а значит, кроме ее врачебной профессии, сочинение текстов разных жанров также стало настоящим призванием.
Хорошие рассказы мемуарного характера периодически публиковал в журнале, а потом издал в солидной книге Николай Хосомоев, профессор-литературовед. Он открыл в себе уже в солидном возрасте хорошего прозаика, использующего исключительно факты своей биографии. Особенно интересен рассказ «Длинная баба» (2013, № 1) – повествование о своей матери, превратившееся в эпическую сагу от первого лица – более всего о детстве, о жизни своих односельчан, о поколении, пережившем гражданскую войну, коллективизацию, голодные послевоенные годы. Выходец из деревни иркутских бурят, автор сумел найти интересную повествовательную манеру, похожую на устный монолог сказителя, чтобы увлекательно передать историю своей матери – женщины безграмотной, необычайно трудолюбивой и очень активной натуры. Ее облик так и встает перед глазами – высокая, рослая (потому и называли в деревне «длинной бабой»), жилистая, неуемная в работе. Видишь ее воочию, потому что единственный сын, которым наверняка она гордилась, без всяких сюсюканий (сын своей мамы!) воссоздал подробную историю женщины, каких, быть может, было немало в предбайкальской глубинке, но такую историю, которую обязательно нужно поведать миру, – о поколении наших отцов и матерей, проживших жизнь трудную, но незряшнюю, очень достойную.
Автобиографическими являются рассказы Даримы Самбуевой-Башкуевой, появлявшиеся на страницах журнала, начиная с 2012 г. Это рассказы, наполненные лирическими воспоминаниями о своих любимых бабушке и дедушке от лица автора – благодарной внучки, отдающей им дань своей любовью и работой памяти о тех их уроках, которые привнесли в ее жизнь глубокий смысл. Вот воспоминание героини о похоронах бабушки из рассказа «Сосны моей памяти»:
«В памяти остался свежий холм земли, столбик с белоснежным полотнищем «ма-ани» в изголовье, уже успевший грустно повиснуть. Больше я не была на том кладбище, и, конечно, холмик давно сравнялся с землей. Так велит обычай, который нельзя переступать даже ради самого любимого человека на свете…
Поздним вечером я вышла во двор. Небо давно прояснилось, крепчал мороз. Окрестность покрылась белым одеялом свежевыпавшего снега. Ярко блестела луна. Вокруг было так светло, что мне невольно вспомнилась та далекая, такая же светлая ночь моего детства, когда вдоволь нагостившись, я возвращалась вместе с бабушкой на заимку, где из жарко натопленной избы, накинув на плечи тужурку, выходил нас встречать еще довольно молодой и крепкий дедушка.
Все встречи заканчиваются разлукой. Вот и мы проводили в последний путь нашу бабушку. Холмик ее могилки находится далеко от местности Хахир, где ранее на маленьком кладбище был похоронен наш дед. Согласно древним заветам, захоронения мужа и жены должны находиться в разных местностях» [4, с. 88].
Верность своей памяти в рассказе Д. Самбуевой-Башкуевой такая же, как верность народным обычаям, которые не должны быть нарушены, если ты благодарный потомок. Так же обстоит дело с памятью автора в рассказе «Долгая дорога в Иволгинский дацан», который заслужил премию журнала. Автор-рассказчик вспоминает эпизод из детства, когда вместе с дедушкой и бабушкой она совершила путешествие из глухой заимки в Хоринском районе в город, чтобы посетить летний молебен в Иволгинском дацане – Диваажан-дацане. Такие поездки случались ежегодно, были полны трудностей передвижения в переполненных автобусах, долгого их ожидания под жарким солнцем, невероятно тяжелых для здоровья людей преклонного возраста потрясений, чтобы испытать счастье соприкосновения с божествами в храме, чтобы услышать и произнести самим молитвы о благоденствии в этом мире и будущем своем перерождении, позволяющем избежать страданий сансары. Для маленькой девочки это были первые шаги познания прекрасного мира, пройденные вместе с бабушкой и дедушкой, и они остались самыми главными в ее жизни. По светлым ощущениям ребенка, открывающего мир поистине божественный, рассказ может напомнить читателю, если можно без преувеличения сказать, чеховский шедевр «Степь». Рассказ еще интересен тем, что воспоминание о детстве, о событии полувековой давности соединяет прошлое и настоящее очень органично, и потому краски детства не поблекли, память сохранила мудрые речи самых дорогих людей, все подробности запомнились так, что для читателя становится понятной та благодарность автора своим родным людям, которая сподвигла найти тон, стиль, манеру рассказывания, позволила дать волю переполняющим чувствам и переживаниям.
Заметной особенностью в развитии жанра рассказа становится использование автором фактов собственной «реальной жизни», и тогда автобиографический элемент обретает сюжетообразующий потенциал – тенденция, характерная для русского рассказа рубежа ХХ–ХХI вв. [3]. Несмотря на присутствие в рассмотренных рассказах героя с автобиографической привязкой, читатель имеет дело с вымышленным сюжетом, воссоздающим процесс самопознания героя. Такой герой стремится достичь подлинной идентичности со своим истинным «я» и часто предстает творческой личностью, родственной автору – создателю текста, чем и объясняется иллюзия авторского участия в сюжете самопознания.
Таким образом, в разговоре о литературном процессе в национальной республике неизбежно возникает немало интересных наблюдений над явлениями и тенденциями в новейшей литературе, прежде всего в развитии отдельных жанров. Так, на примере функционирования жанра рассказа, популярного и перспективного в своей экспериментальной новизне, можно также проследить пути развития журнала-«толстяка», определить его значение в условиях цифровой эпохи как для литературы, так и для нас, читателей, потому что живет надежда на его дальнейшую плодотворную жизнь, его способность привлечь нас новыми именами и произведениями.
Список литературы Рассказ на страницах журнала «Байкал»: о развитии жанра в литературе Бурятии 2010-х гг
- Ербактанов А. Вторая осень. Рассказ // Байкал. 2015. № 2. С. 45-54.
- Извеков Ю. Коробка спичек: стихи и проза. Улан-Удэ: Республиканская типография, 2018. 336 с.
- Имихелова С. С. Non-fiction или autofiction?: об одной тенденции в русском рассказе рубежа XX-XXI вв. // Вестник Бурят. гос. ун-та. 2020/1. С. 34-42.
- Молонов Б. Город смерти // Байкал. 2009. № 3. С. 65-66.
- Самбуева-Башкуева Д. Сосны моей памяти // Байкал. 2017. № 3. С. 84-88.