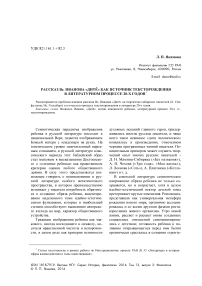Рассказ Вс. Иванова "Дитё" как источник тексторождения в литературном процессе 20-х годов
Автор: Якимова Людмила Павловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема влияния рассказа Вс. Иванова «Дитё» на творчество сибирских писателей (Л. Сейфуллина, Ис. Гольдберг) и его места в процессе текстопорождения в литературе 20-х годов.
Всеволод иванов, "дитё", мотив невинности ребенка, литературный процесс 20-х гг., текстопорождение
Короткий адрес: https://sciup.org/147219013
IDR: 147219013 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Рассказ Вс. Иванова "Дитё" как источник тексторождения в литературном процессе 20-х годов
Семиотическая парадигма изображения ребенка в русской литературе восходит к национальной Вере, задается изображением Божьей матери с младенцем на руках. На генетическом уровне запечатленный народным сознанием, в русской литературе классического периода этот библейский образ стал знаковым в высказывании Достоевского о «слезинке ребенка» как нравственном критерии оценки любого общественного деяния. В силу этого представляется возможным говорить о возникновении в русской литературе особого метатекстового пространства, в котором преимущественно возникает у писателя потребность обратиться к созданию образа ребенка, акцентиро-ванно наделенного теми идейно-эстетическими функциями, которые в наибольшей степени способствуют выявлению авторского взгляда на мир, характер общественного устройства.
Традиции изображения ребенка как знакового, иногда восходящего к символу, носителя нравственной чистоты и непорочности, в своем роде как критерия истинности духовных исканий главного героя, придерживались многие русские писатели, и чаще всего такое невинное «дитя человеческое» появлялось в произведении, отмеченном чертами программных чаяний писателя. Показательным примером может служить творческий опыт многих русских писателей – Д. Н. Мамина-Сибиряка («Без названия»), А. П. Чехова («Три года», «Моя жизнь»), Л. Леонова («Соть»), А. Платонова («Котлован») и т. д.
В советской литературе семиотическое напряжение образа ребенка не только сохраняется, но и возрастает, хотя в целом идейно-эстетический вектор детской темы претерпевает крутые изменения. Революция, представшая как универсальная метафора рождения нового мира, органично ассоциировалась и со всеми другими фазами роста-взросления живого организма. Утро новой жизни, рассвет и расцвет вновь созданных социальных отношений синонимизирова-лись с детством; готовность ребенка к познанию открывающегося перед ним бытия органически срасталась в сознании строите-
Статья подготовлена в рамках работы по Интеграционному проекту РАН № 53 «Литература и история:
сферы взаимодействия и типы повествования».
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 2: Филология © Л. П. Якимова, 2014
лей социализма с полнотой общественных ожиданий, радостью первооткрытия невиданных форм жизнеустройства. Пронизывающее пролетарскую идеологию адами-стическое начало, отчетливо проявившееся в нигилистическом отношении к былому, прошлому, «старому» опыту жизни и абсолютизации жизнестроения «с чистого листа», обусловило новый характер отношения к детству, ребенку как таковому, вплоть до их сакрализации. Престижной формой социального поведения стало жить не настоящим, а будущим, во имя счастья детей. «Счастливое будущее детей» превратилось в знак качества текущей жизни строителей социализма, обрело значение ценностной категории.
В реальной действительности, в объективной сути своей, новый идеологический статус ребенка обернулся не столько счастливым детством, сколько многими непредсказуемыми последствиями антропологического характера. Прежде всего детство лишилось главной своей привилегии как самодостаточно значимой, неповторимой и неприкосновенной поры человеческой жизни, какой предстала она в классических произведениях русской литературы – Л. Н. Толстого, С. Т. Аксакова, Н. Г. Гарина-Михайловского… Ребенок сразу оказался погруженным в мир такого яростного бурления страстей и интересов взрослых, где реальному детству места не оказалось. Парадокс наступившего после революции времени заключался в том, что, став заложниками непримиримой классовой борьбы взрослых, во имя достижения счастливого детства принуждены были жить и сами дети.
На первый план литературной проблематики молодой советской литературы выдвинулся сюжетно-мотивный комплекс непримиримого столкновения двух социальных миров – красных и белых, вызвавший небывало острый спрос на жесткую эстетику описания батальных сцен – боев, сражений, вспышек классового возмездия, сопровождающегося казнями, пытками, расстрелами. Сохранявшиеся в потенциале революционного текста поэтические краски почвенного роста, здоровья, расцвета, счастья, радости, веселья как неизбывные черты новорожденной литературы не противоречили эстетизации героической гибели-смерти ради революции, страданий, боли, лишений и мучений во имя служения ее интересам. В литературную моду входило пристрастие к натурализму, шокирующему читательское восприятие изображению изнанки и подполья человеческого поведения: «Нынешние любят описывать трупы и смрад или половые штучки… – писал о литературе тех лет И. С. Соколов-Микитов, – это болезнь» (см.: [1991. С. 512]). И может быть, самое важное и главное отличие детского топоса новой литературы от классического – это привлечение самих детей к активному участию в социальной сваре взрослых. Ребенку на равных со взрослыми «предоставляется» возможность бороться, воевать, сражаться и, как следствие, гибнуть за свое и общее счастье. Появляется множество произведений, где тема детского героизма обретает большое разнообразие сюжетного выражения и где авторская позиция совпадает с господствующими идеологическими установками.
В начале 1920-х гг. становятся особенно популярными произведения, в которых доминирует мотив гибели ребенка на баррикаде. В этом же мотивном контексте («гибели ребенка на баррикадах») читаются, например, рассказы М. Шолохова «Алешкино сердце» и «Нахаленок».
Одной из самых ранних и перспективных для дальнейших судеб советской литературы заявок на постижение подлинной глубины революционной проблематики стало творчество Всеволода Иванова. Его «Партизанские повести» являют героев, по-разному воспринимающих цели Гражданской войны. И хотя в соответствии с идеологической данью, и у Вс. Иванова правота красных неизменно превышает правоту белых, тем не менее различие голосов ощутимо и отдано на суд читателя: если один из героев говорит: «Воевать надо! Буржуев бить надо!», то другой убежден: «Любовь надо люду. Без любви не проживут… Без любви вечно воевать будут. Нельзя так!» [1979. С. 249].
«Нельзя так!» – этот нравственный императив становится сквозным нервом художественного мира писателя, убежденного в том, что цепь обоюдного мщения может оказаться бесконечной и привести к безысходности. И пафос безудержного прославления революции, и отстранение от нее путем живописания ужасов Гражданской войны в одинаковой степени оказываются чужды ему. Уже в ранних произведениях выявляется стремление разглядеть сложный и противоречивый «лик» революционной нови, увидеть не только величие исторического переворота, но и его трагическую изнанку. Революция разверзла бездну человеческих страстей, разбудила дремавшие в глубине человеческой натуры инстинкты, обнажила скрытые в ней противоречия: еще недавно достаточно отвлеченные понятия Добра, Зла, Милосердия обрели характер неотложно-практического общеустройства, в том числе остро востребованной оказалась и память о той ментальной «слезинке ребенка», которая сохраняется в душе человека при любых обстоятельствах.
В 1921 г. появился рассказ Вс. Иванова «Дитё», где судьба младенца предстала как средоточие всех нравственных, духовных, идеологических проблем, порожденных революцией. В судьбе беспомощного человеческого существа, обнаруженного партизанами «Красной гвардии отряда товарища Селиванова» в плетеной повозке рядом с двумя только что убитыми офицерами, тугим узлом сплелись неразрешимые проблемы классовой и общечеловеческой морали, жалости и долга, отмщения и прощения, скорого суда и оглядки на Вечность. Собственно, избежать бессмысленного убийства «краснооколышников» было можно. Выбор у партизан был – взять офицеров в плен, но ослепленные классовой «злобой», упоенные анархическим своеволием победителей и полной – в ходе революции – обесцененно-стью человеческой жизни приняли скорое решение: «Разом, задев одна другую, упали фуражки в кузовок» [Иванов, 1990. С. 141]. И «больше всего злило (здесь и далее в цитатах подчеркнуто мною. – Л. Я.) их – появились офицеры в степи одни, без конвоя. Будто их тут сила несметная, мужикам смерть будто» [Там же]. Обвинением бездумно-скорому суду было и то, что один из убитых офицеров оказался… женщиной, и то, что женщина эта оказалась кормящей матерью: «…в плетеной китайской корзинке лежал белоглазенький и белоголовенький ребенок… Грудной, маленький, пищит слегка» [Там же]. Буквально озверевшие от тяжести переходов по монгольской степи, где «камень – зверь, вода – зверь, даже бабочка и та норовит укусить» [Там же. С. 139], ожесточенные давней оторванностью от дома, семьи, хозяйства, кипящие жаждой мести врагу за невосполнимые потери в кровопролитных боях партизаны оказываются в конечном счете способны возвыситься над классовой ненавистью до поистине притчевого исхода своих сомнений.
«Собрал Селиванов сход и объявил:
– Нельзя хрисьянскому пареньку, как животине, пропадать. Отец-то, скажем, буржуй, а дите – как? Невинно.
Согласились мужики.
– Дите ни при чем. Невинно» [Там же. С. 141].
Беспомощный младенец пробудил в ожесточенном братоубийственной войной сердце то вечное и нетленное, что свойственно человеку всегда и всюду – заботу о сохранении жизни на Земле, мысль о неизбывности Добра и Милосердия. Огромным внутренним смыслом наполнена в этом контексте сцена, когда «в захваченной тележке ехал Афанасий Петрович, держал в руках ребенка и, покачивая, напевал тихонько:
Соловей, соловей-пташечка…
Канареечка…
Жалобно поет…
Вспоминал он поселок Лебяжий – родину; пригоны со скотом, семью; ребятишек – и тонкоголосо плакал.
Ребенок тоже плакал» [Там же. С. 142].
Известна восторженная оценка рассказа С. Есениным («Дитя» твое – такая высота!..» (см.: [Жаткин, 1975. С. 113]), рассказ по справедливости был высоко оценен и читателем, и литературной критикой, увидевшей в нем знак непрерывности гуманистической традиции русской литературы, своего рода «охранную грамоту» против зла и насилия. Но не столь прямолинейно выраженным оказалось отношение автора к проблеме гуманизма в эпоху революции, как увиделось это при первом впечатлении от рассказа. Белогвардейского ребенка партизаны спасли, но спасли ценою жизни другого ребенка, оторванного от груди киргизской матери и безжалостно оставленного в степи на верную погибель: по существу, классовый геноцид уступил место национальному, одна форма насилия сменилась другой. В бесконтрольной стихии революции предельно обнажилась кричаще противоречивая природа человека, где тесно переплелись между собой и вечное чувство любви, и неизбывная сила ненависти, волчья злобность и канаре-ичкина жалостливость, убеждая в мысли о беспочвенности надежд на мгновенноавтоматическую перестройку человека путем следования революционным лозунгам.
Насилие – органически присущая революции черта, и в рамках ее поиски путей к решению проблемы гуманизма беспочвенны.
Эту суровую правду рассказа «Дитё» по выходе его в свет не заметили или предпочли не заметить. И даже много позднее, уже в 70-е гг., отмечая особую роль Вс. Иванова в подходе к освещению «социально-исторической перспективы», исследователь литературного процесса 20-х гг. не нарушил принципов оправдания революции любой ценой: «“Дитё” ни при чем, – читаем в монографии В. В. Бузник, – таким было решение партизан, сделавших невозможное и даже порушивших “чужую” детскую жизнь ради того, чтобы не пропало маленькое существо, которое разбудило в их сердцах человечность как своей беззащитностью, так и своей причастностью к будущему…» [1975. С. 115]. Здесь нет цели перечеркивать или умалять культурно-историческое и научное значение монографии В. В. Бузник, в свое время поднявшей и по-своему осмыслившей богатейший пласт истории русской литературы, но сегодня нельзя не видеть не только нравственно-этической сомнительности тезиса о праве «порушить “чужую” детскую жизнь ради того, чтобы не пропало другое маленькое существо», но и его смысловой нелогичности: все-таки, значит, утверждение «дите невинно» лишено абсолютности, и одна детская жизнь по каким-то причинам оказывается все-таки ценнее, важнее другой и, следовательно, революционный опыт не служит доказательством истинности убеждения, что «дите ни при чем»?..
В силу своих неоспоримых идейно-художественных достоинств рассказ Вс. Иванова оказал на современных ему писателей немалое влияние: без преувеличения можно сказать, что рассказ создал поле особого духовного напряжения, что возникло в своем роде метатекстовое пространство, восходящее к прозвучавшим в нем мотивам. Однако востребованной оказалась не глубина его нарратива, связанная с постижением неизбывных противоречий революции, а главным образом тот мотивный комплекс, который восходил к проблемам соотношения личных и общественных интересов, классовых и общечеловеческих начал в поведении людей революционного времени – причем в строгом соответствии с его идеологическими требованиями.
Когда двумя годами позже М. Шолохов в рассказе «Шибалково семя» обращается к тому же сюжету усыновления ребенка чужой классовой породы, он завершает повествование вполне благополучным финалом, не вызывающим у читателя никаких сомнений в безупречности революционного гуманизма, непогрешимости новых социальных отношений. В соответствии с коллективным решением отряда Шибалок оказавшуюся вражеской лазутчицей жену убивает, а только что родившегося от классово чуждой женщины сына удачно определяет в детский приют. Как и в рассказе «Дитё», шолоховские партизаны проявили милосердие к невиновному младенцу, преодолев «злобу» на мать-шпионку и вняв мольбам товарища по оружию: «Просил сотню и землю целовал. Тут они поимели ко мне жалость и сказали:
– Ну, добре! Нехай твое семя растет, и нехай из него выходит такой же лихой пулеметчик, как и ты, Шибалок. А бабу при-кончь!» [Шолохов, 1956. С. 133]. Диалог этот многозначим, ибо исполнен не сразу открывающимся смыслом – надеждой на преемственность революционного дела отца сыном, расчетом на нескорое завершение братоубийственной войны. Поистине: «есть у революции начало – нет у революции конца!».
Сюжетно-мотивная перекличка рассказов «Дитё» и «Шибалково семя» очевидна, однако художественный модус и эмоционально-психологическая тональность их повествования глубоко различны: если в рассказе М. Шолохова довлеет сентиментальнолирический колорит, то в рассказе Вс. Иванова сквозят глубины драматизма. И если один финал полнится революционным оптимизмом, то другой взывает к раздумьям о неизведанных путях к будущему: «…бе-жали неизвестно куда лога, скалы, степь, чужая Монголия.
Незнаемо куда бежала Монголия – зверь дикий и нерадостный». И композиционно обрамляющая рассказ «Дитё» фраза о степном бездорожье и непереносимых трудностях преодоления этого «незнаемого» пространства настойчиво взывает к раздумьям о наступившем времени.
Мотив признания невиновности ребенка как составляющая часть сюжетно-тематического комплекса преодоления классового сознания общечеловеческой моралью и как отражение упорного поиска путей к упроче- нию гуманистических интенций вошел в творческую практику советских писателей, обнаруживая и живые токи непосредственного влияния Вс. Иванова на литературных коллег в аспекте интертекстуальности, и разного рода типологические схождения, пересечения, переклички, восходящие к художественному тексту наступившего времени. Что же касается влиятельной роли Вс. Иванова в литературном процессе 20-х гг., то это было общепризнанным фактом, достаточно сослаться на литературнокритическую работу В. Львова-Рогачевского под говорящим названием «Новый Горький», где Вс. Иванов предстает как писатель, в творчестве которого «впервые Сибирь дождалась своей эпопеи» [Львов-Рогачевский, 1922. С. 159].
В 1924 г. выходят в свет два рассказа известных сибирских писателей – «Старуха» Лидии Сейфуллиной и «Бабья печаль» Исаака Гольдберга, где образ ребенка отчетливо выявляется в своей знаково-ценностной сути.
В рассказе «Старуха» «смутное» время передано через переживания деревенской старухи, у которой революция отняла все: налаженный быт, мужа, даже право верить в Бога, а ближайшим виновником тягостного одиночества ей видится ставший большевиком сын Антип, попытки которого восстановить и наладить отношения с матерью она неистово отвергает, страстно отстаивая свою непримиримость: «Нет, милый, нет сыночек, на горе да на беду выношенный, вырощенный, на свое мать не повернешь. До старости донесла веру. Не зря спина колесом, жилы на руках узлами и маятная ломота в костях» (см.: [Сейфуллина, 1990. С. 214]). Ее монолог, то обращенный к сыну, то внутренний, обращенный к самосознанию, органически переходит в авторское повествование, через некоторое время снова возвращающееся то к исповедальному слогу героини, то к диалогу ее с сыном, в результате чего нарратив оставляет у читателя ощущение непосредственно на его глазах длящегося действия, создает впечатление живой достоверности наступившего времени.
Художественный мир Сейфуллиной не однозначен и не прямолинеен, он подчинен бинарной модели мироздания: он явлен не по принципу «было плохо – стало хорошо» или «было хорошо – стало плохо», а в состоянии поиска путей и обретению бытий- ной стабильности. У старой женщины есть своя философия жизни, восходящая к национальному менталитету, христианской картине мира и временами зримо выявляющая авторскую позицию: «…до старости нерушимо донесла свою веру: под богом в покорности человек ходить должен. Каждый под своим ярмом, на своем месте. Мужику всей кости мужицкой положено трудами хлеб добывать, родить детей и оставлять их взамен себя в запряжку таких же дней, какие прожил сам. И жили, и трудились. Не без скорби, не без боли, но хозяйствовали. Не на первом счету, но и не последними среди почитаемых в деревне, правильных, хозяйственных были» [Там же].
Действительно, тяжкой выглядит в исповедании деревенской старухи доля сибирского крестьянина, но от века заведенный порядок не лишал человека душевного покоя и давал надежду на справедливый исход «правильной, хозяйственной» жизни. В рассказе Л. Сейфуллиной «неправильность» наступившего времени выдает его эмоционально-психологический климат, определяемый эскалацией социальной вражды, классового ожесточения и непримиримости. И если художественная логика рассказа И. Эренбурга, исходящего из однозначно понятой правды, склоняет не просто к оправданию, но и к исповеданию «злобы» и «великой Ненависти», то ценностная окраска лексем «злоба, злость» в рассказе Л. Сейфуллиной принципиально иная. Характерна мотивная плотность ее в рассказе: «сказала злым голосом» (с. 213), «лицо от злобы даже помолодело» (с. 213), «и сердце опять злобой и болью распалялось» (с. 214), «самосильные люди за реквизиции городские на Антипа злобились » (с. 215), «глядя на сына, распалялась» (с. 216), «только гнев и скорбь за последние дни» (с. 216), «мать смотрела на него злобно » (с. 217). В этом повествовательном контексте принятое матерью решение выглядит незыблемо-непоколебимым: «Нет у меня сына… Отрекаюсь» (с. 217). Но ситуация резко изменяется, когда старуха узнает о том, что Антипа убили, а в городе осталась его «баба». Отрекшаяся от сына мать, «надвинула ниже на лоб платок и спросила тихо:
– Баба-то с дитем ай порожняя?» (с. 217).
Если с позицией Эренбурга, возводящего социальную «злобу» в программу жизненного поведения, Сейфуллина объективно полемизирует, то с моральной максимой Вс. Иванова полностью солидаризируется: дитё ни при чем! И старуха лихорадочно засобиралась в город: «Повивать надо к Марье идти. Пойду потружусь… Пропитание нужно, некогда разговоры разводить» (с. 217). Невинно-невиновное дите, слабое и беспомощное, только что увидевшее свет, способно приостановить мутный поток злобы и ожесточения, внести лад в ход семейных отношений, восстановить согласие с односельчанами. Но благостный финал сгладил бы остроту конфликта революционной нови, что противоречило творческим установкам писательницы, избегающей полуправды. Слишком тяжело давался опыт постижения новой жизни, чтобы одним махом развеялись все сомнения и страхи, ушли «гнев и скорбь», зло переплавилось в добро. Легкое приятие новой правды противоречило бы правде художественной, логике изображения настойчиво-упрямого характера героини. С одной стороны, взяв общечеловеческую высоту признания классово чужого ребенка, старуха предуготовляет себя к поездке в город, с другой, приняв это решение, «с того дня будто таять начала». Надорванное внутренними терзаниями сердце, не выдержало: «крепкая старуха была», но умерла, не увидев внучонка.
О том, как не просто приживался в реальной действительности 20-х гг. нравственный принцип: «дитё ни при чем. Невинно», как глубоко проникли в повседневный обиход революционные лозунги классовой непримиримости, повествует Исаак Гольдберг в рассказе «Бабья печаль». Если героиня Л. Сейфуллиной перед смертью успела узнать, что родившееся дите – «внучонок», то в рассказе И. Гольдберга речь идет о ребенке, еще не родившемся, не имеющем ни имени, ни пола, ни возраста, но уже попадающем под власть больших и неразрешимых проблем времени. Выполняя задание партизанской разведчицы, таежница Па-рунька попала в плен к белочехам и была изнасилована: проявить волю к сопротивлению значило в этой ситуации провалить боевое задание. Вернувшись в отряд, изрядно потрепанный в боях и измотанный условиями обитания в таежной глухомани, стала вместе со всеми «раны зализывать, силу копить, ярость и злобу лелеять в себе… Похудевшая, с незажившей рукой, с испугом каким-то на тусклом лице.
Прежняя Парунька – и не прежняя. По-прежнему обмывает ребят, лохмотья от грязи отполаскивает, по-прежнему кашеварам помогает, по-прежнему готова здоровой рукой нести винтовку и гореть вместе со всеми злобой борьбы .
Но что-то дрогнуло в бабе» [Гольдберг, 1990. С. 204].
Трудно не обратить внимание на общие черты социально-психологической атмосферы в рассказах «Старуха» и «Бабья печаль» и сходство поэтических средств ее воспроизведения: те же «ярость и злоба», «злоба борьбы» у Гольдберга не просто доминируют в душевном мире героев как личностное мироощущение, а определяют цели и программу общественной жизни: «гореть вместе со всеми злобой борьбы». Революция меняет не только структуру общественных связей и отношений, она способна влиять на ход генетических процессов, посягать на исконную природу человеческих чувств. Ощутив беременность, Парунька испытывает смятение: «Того это дитя – окаянного, чужого насильника!..» [Там же. С. 205]. И ненависть к классовому врагу пересиливает материнские чувства: «Исполненная отчаяния и горечи, слушает Парунька ей только одной слышное. Глотает тяжкие вздохи. Глядит, не видя, в желтеющие недра леса. И ждет». Неопределенностью ожидания создается открытость финала: судьбы своего ребенка не знает и сама Парунька, положившись на исход предстоящего боя, которого не избегает во имя спасения ребенка, а именно ждет, положившись на слепую судьбу: «Ждет последнего кровавого крещенья. Чтоб утишить безграничную тоску…» [Там же].
Финальное многоточие погружает читателя в раздумье: останется ли жива Парунь-ка, родится ли ее ребенок или погибнет вместе с ней, примет «кровавое крещение» в бою, а если родится, не окажется ли «виновным» в своем происхождении, не ждет ли его участь «нахаленка»…
Несмотря на заметную оглядку в сторону Вс. Иванова, мотив невинности ребенка в смысле безотносительности его участи к классовым ценностям выглядит в литературе 20-х гг. достаточно вариативно, дав своего рода подмотивные ростки и ответвления в вариантах родившегося, но не увиденного ребенка, как в «Старухе»; нерожденного, как в «Бабьей печали», и даже ложного, как в рассказе И. Бабеля «Соль» (1924). В этом случае не лишним будет напомнить, что в плане данной статьи объектом рассмотрения является не детский топос советской литературы 20-х гг. вообще, а лишь те стороны и части его, где образ ребенка явлен в своей знаковой сути, например, признания абсолютной ценности человеческой жизни независимо от социального статуса ее или метафизического уподобления акта рождения постреволюционного мира состоянию детства, когда детство предстает как пробный камень человеческой истины, когда даже промельк, проблеск детского образа сигнализирует о знаковой силе художественного текста, и т. д. Скорее всего именно этим ключом и открывается значение детского мотива в рассказе И. Бабеля «Соль». По существу, в нем разыгрывается парадоксальная по своему характеру нарративная ситуация: ребенок как реальный образ в нем отсутствует, но на утвердившемся в советской идеологии отношению к ребенку построен его сюжет. В рассказе И. Бабеля детский мотив прочно вмонтирован в популярный в 20-е гг. мотивный комплекс теплушки (железнодорожный вагон военного времени), многочисленные смысло-поэтические трансформации которого существенно обогатили художественный образ грозовой эпохи, найдя воплощение в таких, например, произведениях, как «Возвращение Будды» Вс. Иванова, «Обычай ветра» В. Лидина, «Барсуки» («Про руку в окне») Л. Леонова, проникнув и в документально-мемуарную литературу.
Душевно очерствевшие от многолетней жизни в боях, походах, отрыва от семьи и нормального быта, испытывая к тому же угарное чувство победителей, вершащих свое право на классовое возмездие, герои И. Бабеля, равно как и Вс. Иванова, В. Лидина, Л. Леонова, из пестрой толпы рвущихся в теплушку однозначно выбирают способных к удовлетворению их корыстного интереса. «Задаром нынче никто не везет…» – убежден герой рассказа В. Лидина [1990. С. 211]. «Какой от старушонок навар?» – вторят ему герои Л. Леонова [1982. С. 210]. Но для женщины с прижатым к груди младенцем конармейцы И. Бабеля делают исключение, не в пример тем оказавшимся «налицо двум девицам», нескрываемо предназначенным для ночных утех. Ей гарантируют покой и неприкосновенность:
«Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите, как водится матерям, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка видать мало» [Бабель, 1966. С. 87]. Однако по тону обращения к женщине чувствуется, что не просто естественно свойственные человеку милосердие и сердобольность руководят хозяевами теплушки: есть в нем какая-то заданность, обнаруживается своего рода идеологический привкус, прорываются агитационно окрашенные ноты, конституированные духом времени. Привычная конармейцам жаргонная речь в обращении к женщине с ребенком уступает место социальной риторике с чертами агитационной призывности: «надеемся на вашу совесть».
Ребенок значит уже больше, чем ребенок. Он воспринимается как общественное достояние, общенародная собственность в значении строителя нового мира, смены революционных поколений: «вырастите нам смену…» Но и мешочница-спекулянтка руководствуется теми же идеологическими посылами, и ее авантюрный план – скрыть по-за пеленками вместо младенца «добрый пудовик соли» построен на том же идеологическом постулате заботы о детях как залоге будущего, дающем ей верный шанс попасть в теплушку и «нетронутой» вернуться к мужу. Предельно оскорбленные коварной игрой на их идейных убеждениях, конармейцы не останавливаются перед скорым судом: «Ударь ее из винта», – советует один из них, другой без колебаний следует его совету: «И сняв со стены верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики» [Там же. С. 89].
В многообразие сюжетно-композиционных поворотов и эмоционально-семантического звучания детского мотива в литературе 20-х гг. конармейский рассказ И. Бабеля вносит заметную художественную лепту посредством использования минус-приема, позволяющего среди других средств нарративной связности видеть стремление писателя противостоять адаптирующей силе официальной идеологии и в этом смысле существенно поколебать мнение о его «полном приятии революционной массы» (см.: [Бузник, 1975. С. 123]). При всей значимости фигуры остранения, актуализированной в основном благодаря сказовой манере повествования, в рассказе «Соль» нельзя не ощутить глубины авторской иронии, не увидеть склонности к интонационному оксюморону, заметно снижающих пафос безоговорочного оправдания революции.
С «легкой руки» Вс. Иванова мотив «невиновности ребенка» как важный критерий определения писательской и – в самом широком смысле – человеческой позиции прочно укоренился в советской литературе, в каждом из ее периодов представая в свойственном наступившему времени идейноэстетическом обличье.
Список литературы Рассказ Вс. Иванова "Дитё" как источник тексторождения в литературном процессе 20-х годов
- Бабель И. Соль. Кемерово: Кн. изд-во, 1966.
- Бузник В. В. Русская советская проза двадцатых годов. Л.: Наука, 1975.
- Гольдберг И. Г. Бабья печаль//Окрыленные временем: рассказ 1920-х годов/Сост., авт. предисл. Н. В. Банников, сост. В. Б. Чернышев. М.: Худож. лит., 1990. С. 193-205.
- Жаткин П. Плюсквамперфектум//Всеволод Иванов -писатель и человек. М.: Сов. писатель, 1975. С. 102-118.
- Иванов Вс. Цветные ветра//Иванов Вс. Собр. соч.: В 8 т. М.: Худож. лит., 1979. Т. 1.
- Иванов Вс. Дитё//Окрыленные временем: рассказ 1920-х годов. М.: Худож. лит., 1990. С. 138-148.
- Лидин В. Обычай ветра//Окрыленные временем: рассказ 1920-х годов. М.: Худож. лит., 1990. С. 206-212.
- Леонов Л. Барсуки//Леонов Л. Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 2.
- Львов-Рогачевский В. Новый Горький (Всеволод Иванов)//Современник. 1922. № 1.
- Сейфуллина Л. Старуха//Окрыленные временем: рассказ 1920-х годов. М.: Худож. лит., 1990. С. 212-219.
- Соколов-Микитов И. С. Письмо в Берлин//Под созвездием Топора. Петроград 1917 года -знакомый и незнакомый. М.: Сов. Россия, 1991.
- Шолохов М. Алешкино счастье//Шолохов М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Молодая гвардия, 1956. Т. 1.