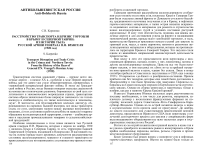Расстройство транспорта и кризис торговли в Крыму и Северной Таврии: из истории тыла русской армии генерала П. Н. Врангеля (1920 год)
Автор: Карпенко Сергей Владимирович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Антибольшевистская Россия
Статья в выпуске: 44, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется состояние железнодорожного, морского и гужевого транспорта в тылу Русской армии генерала П.Н. Врангеля, которая в апреле-ноябре 1920 г. контролировала территорию Крыма и Северной Таврии (бывшую Таврическую губернию Российской империи). Состояние всех видов транспорта рассматривается во взаимозависимости с состоянием внутренней и внешней торговли. Основное внимание уделяется экономическим, политическим, военным и прочим факторам, которые способствовали усилению расстройства всех видов транспорта. Раскрывается взаимовоздействие разрухи на транспорте и кризиса товарного обращения на территории Крыма и Северной Таврии в 1920 г. Делается вывод, что сильнейшее расстройство железнодорожного, морского и гужевого транспорта закономерно обостряло топливный и продовольственный кризисы, что столь же закономерно вело к обострению кризиса товарно-денежного обращения, росту дороговизны, спекуляции и коррупции.
Гражданская война в России, таврическая губерния, крым, п.н. врангель, русская армия, военная диктатура, железнодорожный транспорт, морской транспорт, гужевой транспорт, товарное обращение, внутренняя торговля, внешняя торговля, инфляция, спекуляция, коррупция
Короткий адрес: https://sciup.org/14913727
IDR: 14913727
Текст научной статьи Расстройство транспорта и кризис торговли в Крыму и Северной Таврии: из истории тыла русской армии генерала П. Н. Врангеля (1920 год)
S. Karpenko
Transport Disruption and Trade Crisis in the Crimea and Northern Tavria:
From the History of the Rear of General P.N. Vrangel’s Russian Army (1920)
Транспортная система воюющей страны - прежде всего железные дороги - в начале XX в., особенно в ходе Первой мировой войны, как это давно уже стало общепризнанным, превратилась в «важнейший материальный фактор» войны. В эпоху же Гражданской войны в России, когда бывшая империя оказалась расколотой на множество политических режимов, боровшихся за свой путь политического и экономического возрождения страны, транспортная система обрела значительно более широкую значимость: не только военную и снабженческую, но также политическую и экономическую1. В частности, для белогвардейских военных диктатур, образовавшихся на окраинах бывшей империи, все виды транспорта стали, по сути, связующим звеном между рынками внутренним и внешним, а от их состояния и работоспособности зависело товарное обращение на подконтрольной территории, а значит - снабжение армии и населения промышленными товарами и сельскохозяйственной продукцией2.
Особенно показательным в этом плане является тыл Русской армии генерала П.Н. Врангеля, которым с апреля по ноябрь 1920 г. являлись Крым и Северная Таврия, то есть территория бывшей Таврической губернии, входившей в Новороссию. В настоящей статье на основе прежде всего архивных документов рассматривается состояние железнодорожного, морского и гужевого транспорта во врангелевском тылу во взаимосвязи с состоянием внутреннего това- 116
рооборота и внешней торговли.
Главными причинами расстройства железнодорожного сообщения стало полное отсутствие угля, поскольку Крым и Северная Таврия были отделены линией фронта от Донецкого угольного бассейна, традиционного источника получения угля в Крыму, и нефтяных горюче-смазочных материалов, а также острая нехватка исправного подвижного состава и материалов для ремонта и строительства новых железнодорожных путей в условиях постоянно растущей дороговизны3. В силу этих обстоятельств, понимая, как важны железные дороги и для достижения успеха на фронте и налаживания экономической жизни, прежде всего «свободной торговли», в тылу, правительство Врангеля приложило немало усилий для закупок за границей угля, масел, а также паровозов, вагонов и различных железнодорожных материалов и оборудования, которые не производились на территории Крыма и Северной Таврии. Эти закупки стали одним из важнейших направлений внешнеторговой деятельности правительства.
Всю весну и лето его представители вели переговоры с иностранными фирмами, пытаясь купить у них локомотивы, вагоны и другие железнодорожные материалы. Цены на все это были непомерно высоки, и они пытались их сбить из-за острейшей нехватки иностранной валюты в казне, однако без успеха. Лишь в конце сентября прибыли в Севастополь закупленные в США еще в конце 1919 г. 10 паровозов «де-Капот» в разобранном состоянии. Причем прибыли они без тендеров, которые еще зимой были доставлены в Новороссийск и там были брошены при эвакуации. Паровозы собирались на Севастопольском морском и Керченском металлургическом заводах. Однако их сборка затянулась и закончилась только к ноябрю, как раз к занятию Крыма Красной армией4.
В августе Управление Южных железных дорог, рассчитывая на поставку необходимых, в том числе для ремонта, материалов, заключило договор с несколькими французскими фирмами на постройку железной дороги Севастополь-Ялта-Симферополь-Кара-субазар-Феодосия. Однако из-за острой нехватки валюты в казне к осуществлению этого проекта даже не приступили5. До ноября, до самого последнего дня существования врангелевской военной диктатуры, представители Врангеля в США вели переговоры о получении долгосрочного кредита для закупки у американских фирм железнодорожного оборудования под залог железных дорог и государственных имуществ юга России6.
В итоге из-за острой нехватки иностранной валюты в казне так и не удалось приобрести на внешнем рынке и импортировать в Крым крайне необходимые паровозы, вагоны, рельсы, стрелки и прочее железнодорожное оборудование.
Более успешно был решен вопрос с импортом угля и нефтяных горюче-смазочных материалов. Ввезти их можно было только из 117
Поти, Батума и Константинополя, на что также требовалось большие средства в валюте: из-за катастрофического падения курса русского рубля на дензнаки главного командования ВСЮР за границей ничего нельзя было купить. Предполагалось, что активные закупки на внешнем рынке, налаженные в апреле-мае, будут временной мерой. Однако организовать добычу угля и нефти в Крыму в необходимых объемах не удалось, а потому импорт стал постоянным способом удовлетворения потребности железнодорожного и морского транспорта, а также технических частей Русской армии в угле и нефтяных горюче-смазочных материалах7.
Закупка и доставка в Крым угля, нефти, бензина, керосина и смазочных масел производились в Константинополе и Батуме либо непосредственно чиновниками (агентами) Отдела горного и топлива (Гортоп), либо контрагентами Гортопа - частными торговыми фирмами, российскими и иностранными. Гортоп вынужден был либо тратить иностранную валюту из казны, либо, что было предпочтительнее из-за острой нехватки валюты, самому вывозить зерно и другие виды сырья для продажи и предоставить право на их вывоз контрагентам при условии обратного импорта угля и нефтепродуктов. Частные фирмы, стремясь нажиться на нуждах правительства Врангеля и Русской армии, предъявляли очень высокие требования, настаивали на максимально выгодных условиях для себя, рассчитывая получить «прибыль выше нормальной», поэтому заключавшиеся с ними Гортоном договора не утверждались Госконтролем из-за чрезмерных затрат валюты или утверждались «со скрипом»8.
По этим договорам российские, английские, американские и французские торговые фирмы доставляли в Крым уголь (в основном из Константинополя) и нефтяные горюче-смазочные материалы (в основном из Батума) в обмен на вывозившееся ими, на основании полученных разрешений, сырье, прежде всего зерно. С другой стороны, в Константинополе агенты Гортопа становились жертвами спекулятивных махинаций иностранных фирм, перепродававших им уголь и нефтяные горюче-смазочные материалы через посредников по завышенным ценам. Особенно этим отличалась американская «Стандарт Ойл». Причем к концу лета доставка угля из Турции значительно сократилась ввиду того, что национально-освободительная армия М. Кемаль-паши занята Анатолию и угольный район. Естественно, это привело к росту цен на уголь9.
Немногим дешевле обходились Гортопу закупки нефти и нефтепродуктов в Батуме. Как и в Константинополе, на батумском рынке за них приходилось платить иностранной валютой либо обменивать на вывезенные из Крыма и Северной Таврии зерно и другие виды сырья, являвшиеся предметом традиционного экспорта из России. Дороже всего на заграничных рынках ценилось зерно. А когда в мае, после установления Советской власти в Азербайджане, перестали действовать нефтепровод и железная дорога Баку-Батум, цены зна-118
чительно выросли. Поэтому Гортопу, усилиями его агентов и через контрагентов, пришлось наладить регулярный вывоз зерна из Крыма и обмен его в Батуме на нефть и нефтепродукты10.
Потребность в угле и нефтяных горюче-смазочных материалах (прежде всего железнодорожного и морского транспорта, а также технических частей Русской армии) была настолько острой, что правительство Врангеля не останавливалось ни перед какими затратами на их приобретение, как по части уплаты валютой, которой остро не хватало, так и по части вывоза закупленного или реквизированного у крестьян зерна. Три-пять пароходов РОПИТа совершали регулярные рейсы между портами Крыма, Батумом и Константинополем, вывозя зерно, прежде всего ячмень, в незначительном количестве шерсть, соль и табак, и привозя топливо и нефтяные горюче-смазочные материалы11.
Перевозились нефть и нефтепродукты в железных бочках, поскольку это был самый удобный и дешевый способ. В портах Севастополя, Феодосии и Керчи нефть, бензин, керосин и масла переливались из бочек в железнодорожные цистерны, а пустые бочки везли пароходами обратно в Батум, где снова заполняли для экспорта в Крым12.
При невозможности импортировать с внешних рынков уголь в потребном количестве железнодорожный транспорт врангелевской Таврии был обречен окончательно перейти на дрова, которых, однако, не хватало столь же остро. При недостатке дров, нефтяных горюче-смазочных материалов и исправного подвижного состава железные дороги не справлялись ни с переброской на фронт войск и военного снабжения, ни с перевозкой казенных и частных грузов. Когда вспышка активности боевых действий вызывала необходимость усиленной переброски войск и боеприпасов на фронт, все составы использовались для обслуживания нужд фронта, и грузовые поезда совершенно переставали ходить.
В результате Управление Южных железных дорог хронически не выполняло заявки Управления торговли и промышленности на вагоны, необходимые для вывоза в Крым зерна, заготовленного в Северной Таврии: обычно их подавалось немногим более половины от числа заявленных. Но и из тех вагонов, что были поданы, загружались далеко не все. Главным образом из-за того, что мобилизованных крестьянских подвод не хватало для подвоза зерна к железнодорожным станциям. Так, в первой половине сентября представителями Управления торговли и промышленности было затребовано 126 вагонов, железнодорожники сумели подать 71, из которых лишь 41 были нагружены зерном и отправлены в Крым. Как правило, зерно, предназначенное для экспорта, не удавалось подвести в крымские порты своевременно и в нужном объеме13.
В ситуации, когда экспорт сырья и импорт промтоваров для врангелевской Таврии приобрели жизненно важное значение, а на внешние рынки вели только морские пути, исключительную роль в проведении казенных и частных экспортно-импортных операций стал играть морской транспорт. Грузовое и грузо-пассажирское пароходное сообщение между портами Крыма (Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь) и портами Северной Таврии (Хорлы, Геническ) должно было обеспечить как каботажные, так и внешнеторговые перевозки, связав все семь портов друг с другом, а также с иностранными портами - грузинскими, турецкими, румынскими, болгарскими, греческими и другими. Однако рост объема перевозок уперся в острую нехватку тоннажа и все того же угля.
В течение лета французское военно-морское командование в Черном море возвратило правительству Врангеля почти все русские гражданские суда, реквизированные в начале 1920 г. в порядке компенсации расходов на снабжение ВСЮР. Часть из них правительство демобилизовало и возвратило владельцам. К концу лета российская грузо-пассажирская «флотилия» в Черном море насчитывала более десятка судов, принадлежавших РОПИТу, Доброфлоту и Ространсу. Эти суда совершали рейсы как каботажные, так и в иностранные порты по мере завершения погрузки, снабжения углем и маслами, получения разрешения на выход в море (от контрразведки, пограничной стражи, таможни и военной комендатуры)14.
Однако исправных российских торговых судов не хватало, а фрахт иностранных судов стоил очень дорого. Кроме того, плавание судов было сильно затруднено острым недостатком угля и масел. Вдобавок командование Русской армии и Черноморского флота периодически мобилизовывало самые большие суда для участия в десантных операциях и военных действиях. Наконец, провоз груза и пассажирские билеты на каботажных и международных рейсах постоянно дорожали, стоили несколько десятков тысяч рублей, и купить их могли позволить себе только чиновники, едущие за счет казны, или крупные торговцы. В итоге наладить регулярные рейсы между портами Крыма и портами Черного и Средиземного морей не удалось, что часто приводило к срыву договорных сроков вывоза и ввоза товаров15.
В итоге полуразрушенное состояние морского транспорта сильно затрудняло казенную и частную внешнюю торговлю, стало тормозом в ее развитии. Между тем скупка сырья на внутреннем рынке и вывоз его за границу для продажи за валюту стало самым прибыльным видом предпринимательства. В условиях падения курса рубля, нарастающего кризиса товарно-денежного обращения и неустойчивого военного положения армии и власти Врангеля в Крыму торговцы за счет активной скупки сырья на внутреннем рынке и его вывоза не внешние рынки спешили выручить побольше иностранной валюты. Конечная их цель состояла в том, чтобы, когда угроза занятия Крыма большевиками станет неотвратимой, успеть покинуть Россию и пустить «честным трудом нажитое» в оборот в 120
западных странах16.
Однако из-за расстройства транспорта частные торговцы вынуждены были либо отказываться от экспортно-импортных операций, либо всеми путями приспосабливаться к этой кризисной ситуации. Недостаток морского тоннажа, дороговизна фрахта иностранных судов, расстройство железнодорожного сообщения - все это, с одной стороны, отталкивало от торговли с Крымом крупные российские торговые компании, специализировавшиеся на операциях в определенной сфере и уже прочно обосновавшиеся в европейских странах, с другой - притягивало мелких и средних торговцев. Оперируя небольшими партиями сырья и товаров, они быстро приспосабливались к колебаниям рыночной конъюнктуры, не нуждались в крупном тоннаже, конкурировали за суда, переплачивая за фрахт и платя за уголь, щедро раздавали взятки чиновникам и не останавливались перед подлогом торговых документов. Чтобы поскорее перевезти свои товары в морской порт (закупленное у крестьян зерно или другое сырье), или, наоборот, вывезти их из порта во внутренние районы (привезенные из-за границы промтовары, в которых остро нуждалось население), торговцы стали особенно щедры на взятки таможенникам и железнодорожникам. За взятки, как ив 1919 г, железнодорожники прицепляли вагоны с товарами частных торговцев к «литерным» составам и отправляли их в требуемый пункт назначения под видом военных грузов или казенных товаров17.
При сравнительно неразвитой сети железных дорог в Таврической губернии столь сильное расстройство железнодорожного транспорта резко подняло значимость транспорта гужевого - крестьянина, его телеги и его лошади. Крестьянские подводы, мобилизуемые военными и гражданскими властями, стали главным средством передвижения, средством перевозки и снабжения войск почти по всей линии фронта, а также предпочтительным средством передвижения в тылу, прежде всего для торговцев с небольшими партиями товара, поскольку лошади часто двигались быстрее поездов. Этапные коменданты, распоряжавшиеся мобилизованными крестьянами-возчиками и их подводами, присылаемыми из окрестных деревень по нарядам, обслуживали только чинов Русской армии. На конно-почтовых станциях лошадей и подвод не было, поскольку их насильно забирали проходившие войсковые части, в результате чего перевозка почты и пассажиров почти полностью прекратилась. Торговцам, гражданским чиновникам и вообще гражданскому населению приходилось самим нанимать подводы за «вольную» плату. Размер ее в течение 1920 г. вырос от нескольких тысяч до 20-30 тыс. руб. за 10 верст прогона18.
При этом шоссейные дороги были почти непроходимы из-за действий «зеленых», занявших все лесные горные перевалы через Крымскую Яйлу, и разбоя, чинимого уголовными бандами, в том числе и офицерскими. Причем бандиты часто рядились в «зеленых», 121
а повстанцы мало чем отличались от бандитов, поскольку также все «конфисковывали». Перевозка дров, почты, продуктов питания и промтоваров была чрезвычайно затруднена и рискованна. Случалось, на дороге расставались не только с деньгами, имуществом и товарами, но и с жизнью19.
Подводная повинность была непосильна и разорительна для крестьян. Возчики с подводами не только дежурили на этапах по нарядам местных властей, но и самочинно привлекались военными для перевозки личного состава и имущества части. Уведенные подводчики возвращались в свои деревни обычно через три-четыре недели, нередко без лошадей и подвод, которых офицеры и даже солдаты отбирали без всякой уплаты20. Часто у возчиков ломались телеги, которые негде было починить (в мастерских не было ни металла, ни угля), от бескормицы и безводья гибли лошади, которых не было возможности купить из-за страшной дороговизны21.
Еще более сокрушительный удар нанесли по гужевому транспорту Таврической губернии конские мобилизации.
Войска, эвакуированные в Крым в марте 1920 г, бросили обозных и верховых лошадей при отступлении на Кубани и при посадке на суда в Новороссийске. Донские и кубанские казачьи конные части превратились в пешие. Получая от командования боевые приказы, но не желая воевать в пешем строю, казаки рассуждали в том смысле, что Врангель, если хочет, чтобы они продолжали воевать с красными, должен обеспечить их лошадьми22. В апреле-мае Врангель несколькими приказами запретил войскам самовольные реквизиции лошадей. С мая по сентябрь главком четырежды объявлял принудительную поставку лошадей в армию, у каждого владельца отбирались все лошади свыше двух голов. Однако реквизиционные и ремонтные комиссии не могли собрать нужного числа лошадей из-за упорного нежелания крестьян отдавать их по низким казенным ценам (в 5-6 раз ниже рыночных). Все же к концу октября удалось собрать почти 9 тыс. лошадей, в результате чего крестьянские хозяйства не справились ни с уборкой хлеба, ни с засевом озимых23.
Однако этого количества было совершенно недостаточно для пополнения кавалерии конским составом и для развертывания обозов, что вынудило части Русской армии, в нарушение всех запретов Врангеля, широко прибегать к насильственным, притом часто бесплатным, реквизициям лошадей24. Особенно усердствовали донские части, беспощадно отбирая лошадей у крестьян прямо в поле, на что военные и гражданские власти вынуждены были смотреть сквозь пальцы25.
Таврические крестьяне, чтобы избавиться от разорительных и ненавистных конских мобилизаций и подводной повинности, старались спрятать телеги и лошадей, порой даже сами ломали телеги, а лошадей укрывали в лесу или угоняли в горы, даже продавали26.
Насильственные конские мобилизации, разорительная подво- 122
дная повинность, невозможность отремонтировать поломанные и разбитые телеги, как и купить лошадей - все это привело к тому, что к августу 1920 г. почти 50 % подвод в Крыму и Северной Таврии пришли в негодность. К весне 1921 г. гужевому транспорту Таврической губернии грозила полная гибель27.
Нарастающая разруха на транспорте, одной из причин которой стали крайне ограниченные импортные возможности как правительства Врангеля, так и частных торговых фирм, самым пагубным образом сказались на внутренней торговле.
Во-первых, поскольку гражданские грузовые перевозки по железным, шоссейным и грунтовым дорогам совершались с большими трудностями и крайне нерегулярно, а порой оказывались почти парализованными, в города с большими перебоями подвозились топливо, зерно и продукты питания для населения, а на сельские рынки с трудом можно было доставить промтовары, необходимые крестьянам. В результате из продажи постоянно исчезали то одни товары, то другие. Скачкообразно обостряющийся товарный голод, естественно, подстегивал дороговизну и создавал почву для спекулятивных махинаций28.
Во-вторых, ситуация, когда дрова стали не только основным топливом для населения, но практически единственным топливом для железных дорог, закономерно подстегивала рост цен на дрова. Этим не преминули воспользоваться крупные лесоторговцы и разного рода торговцы дровами. Торговцы, перекупавшие у лесничих дрова, заготовленные для войск и железных дорог, придерживали их на складах, искусственно вздувая цены на дефиците. С июня по ноябрь цены на дрова выросли в Крыму с 200-400 руб. до 8-10 тыс. руб. за пуд, а в безлесной Северной Таврии, куда подвоза из Крыма почти не было, до 15 тыс. руб. за пуд29. Рост цен на топливо, как это всегда бывает, подстегивал рост цен на продовольственные и промышленные товары.
В-третьих, Управление Южных железных дорог постоянно повышало плату за проезд и тарифы на провоз грузов. С апреля по октябрь железнодорожные тарифы по сравнению с довоенным временем были повышены в 500 раз30. И эти транспортные расходы торговцы, как водится, закладывали в оптовые и розничные цены, по которым продавали свой товар в том населенном пункте, куда доставляли его для продажи. В итоге вслед за железнодорожными тарифами росли и цены на товары, перевезенные по железной дороге. Соответственно, цены повышались и по причине роста расходов на перевозку товаров морем или на крестьянских подводах, причем в последнем случае стоимость проезда и провоза грузов возрастала за счет немалой доплаты за высокий риск быть ограбленным.
В-четвертых, переплачивая за фрахт и уголь для судов в ходе конкурентной борьбы за тоннаж с другими торговцами, щедро раздавая взятки чиновникам за ускоренное и выгодное для себя оформ- 123
ление разрешений на экспортно-импортные операции, не менее щедро «благодаря за труды» таможенников и железнодорожников, торговцы и эти «накладные расходы» - на «смазывание колес», как они сами выражались, - закладывали в цены, по которым продавали свой товар на внутреннем рынке. Естественно, это еще сильнее подстегивало рост цен, толкало торговцев на всякого рода спекулятивные махинации. Чаще всего торговцы периодически изымали из продажи продовольствие и импортные промтовары, пряча их на складах, а затем вздували цены на искусственном дефиците. Спрос значительно превышал предложение, что позволяло торговцам диктовать «грабительские» цены. В результате с апреля по ноябрь цены на основные товары широкого потребления выросли в Крыму и Северной Таврии в среднем в 15 раз31.
Так расстройство железнодорожного, морского и гужевого транспорта стало мощным фактором возникновения товарного голода, активизации спекулятивных махинаций и ускорителем дороговизны. Все это неизбежно, с учетом пережитого на Белом юге в 1919 г, в деникинский период, порождало в тылу Русской армии Врангеля инфляционную панику, которая, в свою очередь, сама по себе подстегивала рост цен. Как показал опыт Гражданской войны, именно опыт белогвардейских военных диктатур, инфляционная паника, паническое поведение населения, как продавцов, так и покупателей, на товарно-денежном рынке закономерно вели к дальнейшему обесцениванию рубля и скачкообразному росту цен, к товарному голоду и разгулу спекуляции и, в конечном счете, к дальнейшему углублению кризиса товарно-денежного обращения32.
Таким образом, сильнейшее расстройство железнодорожного, морского и гужевого транспорта в Крыму и Северной Таврии в 1920 г, как это всегда происходило во время Гражданской войны на «белых» территориях, еще больше обострило топливный и продовольственный кризисы тем, что серьезно затруднило как внутреннюю, так и внешнюю торговлю. А это, в свою очередь, обострило кризис товарно-денежного обращения, подстегивая дороговизну и спекуляцию. Постоянные срывы снабжения, бестоварье, разгул спекуляции и рост дороговизны население справедливо связывало с разрухой на транспорте, причины которой оно видело, в том числе, и в неспособности правительства Врангеля справиться с хозяйственными бедами, а это уже вызывало массовое недовольство населения не столько спекулянтами, сколько самой властью Врангеля33.
Список литературы Расстройство транспорта и кризис торговли в Крыму и Северной Таврии: из истории тыла русской армии генерала П. Н. Врангеля (1920 год)
- Сенин А.С. Железнодорожный транспорт России в эпоху войн и революций (1914-1922 гг.). М., 2009.
- Карпенко С.В. Белое движение: экономика, политика и стратегия//Гражданская война в России, 1917-1922. М., 2006. С. 374-480.
- Карпенко С.В. Финансовая и торговая политика ВСЮР в 1919-1920 гг.//Гражданская война в России (1919-1920 гг.). М., 1995. С. 79-81.
- Российский государственный военный архив. Ф. 101. Оп. 1. Д. 174. Л. 141.
- ; Оп. 3. Д. 62. Л. 83.
- Российский государственный военный архив. Ф. 102. Оп. 3. Д. 561. Л. 71 об.
- Крестьянский путь (Симферополь). 1920. 26 сент.
- Российский государственный военный архив. Ф. 102. Оп. 7. Д. 3. Л. 380 об.
- Врангелевщина (Из материалов Парижского «посольства» Временного правительства)//Красный архив. 1930. № 3 (40). С. 24.
- Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 г. -ноябрь 1920 г.). Ч. 2//Белое дело: Летопись белой борьбы. Кн. VI. Берлин, 1928. С. 20, 33.
- Савич Н.В. Воспоминания. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 369-370.
- Российский государственный военный архив. Ф. 101. Оп. 1. Д. 174. Л. 141 об.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 44. Л. 23, 26, 27, 47.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 45. Л. 65.
- Государственный архив в Республике Крым. Ф. Р-2340. Оп. 1. Д. 1. Л. 66.
- Российский государственный военный архив. Ф. 6. Оп. 3. Д. 116. Л. 42.
- Российский государственный военный архив. Ф. 6. Оп. 3. Д. 141. Л. 448 об.
- Российский государственный военный архив. Ф. 101. Оп. 1. Д. 174. Л. 142.
- Российский государственный военный архив. Ф. 109. Оп. 3. Д. 238. Л. 18.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 44. Л. 23, 26, 27, 47.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 45. Л. 65.
- Российский государственный военный архив. Ф. 1454. Оп. 2. Д. 216. Л. 198.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 133. Л. 14.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 235. Л. 4-10.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 64. Л. 24.
- Российский государственный военный архив. Ф. 6. Оп. 3. Д. 116. Л. 5.
- Российский государственный военный архив. Ф. 101. Оп. 1. Д. 174. Л. 141 об.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 64. Л. 24.
- Ипполитов С.С., Карпенко С.В. Предприниматели и аферисты//Русские без Отечества: Очерки истории антибольшевистской эмиграции 20-40-х годов. М., 2000. С. 23-26.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 3. Л. 42.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 44. Л. 23, 26, 27, 35, 47.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 45. Л. 65.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 356. Оп. 1. Д. 94. Л. 30.
- Государственный архив в Республике Крым. Ф. Р-1765. Оп. 2. Д. 8. Л. 46.
- Российский государственный военный архив. Ф. 6. Оп. 3. Д. 54. Л. 6.
- Российский государственный военный архив. Ф. 245. Оп. 3. Д. 850. Л. 7 об., 9 об.
- Государственный архив в Республике Крым. Ф. Р-2200. Оп. 1. Д. 29. Л. 11, 28, 104, 109, 208.
- Алексеев Н.Н. Из воспоминаний//Архив русской революции. Т. XVIII. Берлин, 1926. С. 249.
- Российский государственный военный архив. Ф. 6. Оп. 3. Д. 141. Л. 532 об.
- Российский государственный военный архив. Ф. 192. Оп. 3. Д. 1441. Л. 5.
- Государственный архив в Республике Крым. Ф. Р-2200. Оп. 1. Д. 36. Л. 29, 122.
- Время (Симферополь). 1920. 30 окт.
- Российский государственный военный архив. Ф. 1454. Оп. 2. Д. 216. Л. 117.
- Российский государственный военный архив. Ф. 1454. Оп. 2. Д. 255. Л. 270 об.
- Крестьянский путь (Симферополь). 1920. 1 окт.
- Российский государственный военный архив. Ф. 198. Оп. 3. Д. 577. Л. 249.
- Российский государственный военный архив. Ф. 198. Оп. 3. Д. 624. Л. 321.
- Российский государственный военный архив. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 484. Л. 251.
- Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 г. -ноябрь 1920 г.). Ч. 2//Белое дело: Летопись белой борьбы. Кн. VI. Берлин, 1928. С. 16.
- Российский государственный военный архив. Ф. 101. Оп. 1. Д. 174. Л. 134 об.-135.
- Государственный архив в Республике Крым. Ф. Р-2235. Оп. 1. Д. 445. Л. 1, 86.
- Государственный архив в Республике Крым. Ф. Р-2235. Оп. 1. Д. 501. Л. 17, 160, 260, 311, 335, 389.
- Российский государственный военный архив. Ф. 101. Оп. 1. Д. 148. Л. 13.
- Российский государственный военный архив. Ф. 101. Оп. 1. Д. 157. Л. 34.
- Российский государственный военный архив. Ф. 198. Оп. 3. Д. 577. Л. 226 об., 239, 295, 323 об.
- Российский государственный военный архив. Ф. 198. Оп. 3. Д. 624. Л. 271 об.
- Российский государственный военный архив. Ф. 245. Оп. 3. Д. 227. Л. 74.
- Калинин И.М. Под знаменем Врангеля: Заметки бывшего военного прокурора. Ростов н/Д, 1991. С. 38, 47, 90-91.
- Российский государственный военный архив. Ф. 109. Оп. 3. Д. 238. Л. 72.
- Российский государственный военный архив. Ф. 189. Оп. 3. Д. 323. Л. 25.
- Российский государственный военный архив. Ф. 192. Оп. 3. Д. 1441. Л. 6.
- Государственный архив в Республике Крым. Ф. Р-695. Оп. 1. Д. 27. Л. 5, 80, 84-85, 146 об., 147.
- Российский государственный военный архив. Ф. 109. Оп. 3. Д. 248. Л. 20.
- Российский государственный военный архив. Ф. 246. Оп. 3. Д. 215. Л. 162-162 об.
- Российский государственный военный архив. Ф. 109. Оп. 3. Д. 296. Л. 17.
- Российский государственный военный архив. Ф. 109. Оп. 3. Д. 299. Л. 6 об.
- Государственный архив в Республике Крым. Ф. Р-695. Оп. 1. Д. 27. Л. 146.
- Государственный архив в Республике Крым. Ф. Р-2235. Оп. 1. Д. 347. Л. 59.
- Российский государственный военный архив. Ф. 102. Оп. 3. Д. 500. Л. 266.
- Российский государственный военный архив. Ф. 109.Оп. 3. Д. 218. Л. 175.
- Российский государственный военный архив. Ф. 109.Оп. 3. Д. 285. Л. 8.
- Российский государственный военный архив. Ф. 246. Оп. 3. Д. 215. Л. 167 об.
- Черниченко М.Ю. Инфляция, инфляционная паника и спекуляция в условиях «свободы торговли» времен Гражданской войны (по материалам газет антибольшевстского юга России)//Экономический журнал. 2015. № 1 (37). С. 71-107.
- Российский государственный военный архив. Ф. 101. Оп. 1. Д. 157. Л. 41 об.