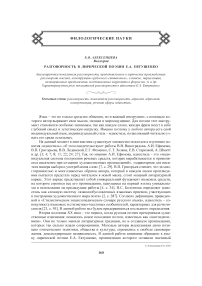Разговорность в лирической поэзии Е.А. Евтушенко
Автор: Алексенцева Е.О.
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 (197), 2025 года.
Бесплатный доступ
Анализируются показатели разговорности, представленные в лирических произведениях: разговорная лексика, конструкции «рубленого синтаксиса», эллипсис, парцелляция, незавершенные предложения, местоименные корреляты в форме им. п. и др. Характеризуется роль показателей разговорности в идиостиле Е.А. Евтушенко.
Разговорность, показатели разговорности, адресат, адресант, коммуникация, речевая сфера, идиостиль
Короткий адрес: https://sciup.org/148330920
IDR: 148330920
Текст научной статьи Разговорность в лирической поэзии Е.А. Евтушенко
Язык – это не только средство общения, но и важный инструмент, с помощью которого автор выражает свои мысли, эмоции и мироощущение. Для поэзии этот инструмент становится особенно значимым, так как каждое слово, каждая фраза несут в себе глубокий смысл и эстетическую нагрузку. Именно поэтому у любого автора есть свой индивидуальный язык, индивидуальный стиль – идиостиль, позволяющий читателю узнать его среди остальных.
На данный момент в лингвистике существует множество подходов к изучению понятия «идиостиль», об этом свидетельствуют работы В.В. Виноградова, А.И. Ефимова, В.П. Григорьева, В.В. Леденевой, Е.Г. Фоменко, С.Т. Золяна, Е.В. Старковой, А. Шмитт и др. [3; 4; 7; 8; 11; 22; 24; 27]. Так, по мнению А.И. Ефимова, идиостиль – это «индивидуальная система построения речевых средств, которая вырабатывается и применяется писателем при создании художественных произведений», «характерная для писателя манера выбора и употребления слов» [7, с. 29]. В.П. Григорьев считает, что за многогранностью и многоликостью образов автора, который в каждом своем произведении пытается предстать перед читателем в новой маске, стоит мощный литературный каркас. Этот каркас представляет собой универсальный фундамент языковых средств, на котором строятся все его произведения, кажущиеся на первый взгляд уникальными и непохожими на предыдущие работы [4, с. 34]. Н.С. Болотнова определяет идио-стиль как сложную систему «взаимообусловленных языковых приемов, участвующих в построении художественного мира поэта» [2, с. 287]. Согласно дефиниции, приведенной в «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка», идиостиль – совокупность языковых и стилистико-текстовых особенностей, характерных для речи писателя [23, с. 95]. В данной работе мы будем придерживаться последнего определения.
Вторая половина XX века – это период, когда русская поэзия претерпевала существенные изменения: появилось новое поколение поэтов, известных как «шестидесятники». Они не только меняли литературные традиции, но и создавали произведения, которых так сильно ждали современники. Молодые авторы высказывали свою позицию относительно политики, общества и культуры, стремились к свободе самовыражения, демонстрировали независимость. В данной работе внимание обращено к языку лирической поэзии Е.А. Евтушенко, произведения которого оставили значимый
след в литературе второй половины XX века. Е.Ю. Сидоров называет Е.А. Евтушенко «очень русским поэтом», придавшим «стиху живую пластичную интонацию разговорной речи» [15, с. 47]. Действительно, важной характеристикой идиостиля Е.А. Евтушенко является использование разнообразных элементов живой неподготовленной речи – сигналов разговорности . Вслед за О.Б. Сиротининой [16, с. 353] и Т. Н. Колокольцевой, разговорность мы рассматриваем «как стилистическую категорию, объединяющую обширный массив языковых особенностей, генетически восходящих к разговорной речи, маркирующую их по принадлежности к соответствующей сфере общения, а за ее пределами создающую колорит этой сферы» [9, с. 284].
Материалом для анализа послужили лирические произведения Е.А. Евтушенко, написанные в разное время, относящиеся к различным тематическим группам. Выбор текстов обусловливался стоящей перед нами исследовательской задачей – выявить и проанализировать лексические и синтаксические особенности идиостиля Е.А. Евтушенко.
Прежде чем перейти к непосредственному анализу лирических текстов, необходимо сделать несколько важных замечаний. В последние годы принцип антропоцентризма занимает одно из ведущих мест в лингвистике. Как отмечает Е.В. Рахилина, лингвистика из «науки о языковых знаках превратилась в науку о человеке» [12, с. 20]. Именно поэтому использование антропоцентрического подхода при анализе лексико-синтаксической структуры поэтических текстов (которые нередко являются полисубъектны-ми) предполагает рассмотрение данных текстов с точки зрения их коммуникативной организации. В этом случае лирика выступает как продукт поэтической коммуникации, где субъектами являются не только лирический герой и читатель, но и другие образы, которые говорят и слушают в мире, созданном автором. Л.Н. Чурилина, развивая идеи М.М. Бахтина о том, что «персонажи говорят как участники изображенной жизни <…>, с частных позиций» [1, с. 311], отмечает два непересекающихся уровня литературной коммуникации «персонаж – персонаж» (изображенная, или виртуальная коммуникация) и «автор – читатель» (коммуникация реальная, несмотря на свою опосредованность) и выделяет персонажную и неперсонажную субъектные речевые сферы в прозе [25, с. 64]. Опираясь на работы Л.Н. Чурилиной [25; 26], в поэтической коммуникации можем выделить несколько субъектных сфер: 1) речевую сферу лирического героя; 2) речевую сферу адресата лирического героя; 3) речевую сферу «третьих» лиц (встречаются произведения, в которых лирический герой рассказывает широкой аудитории или отдельно взятому адресату о какой-то ситуации, цитируя участников произошедшего).
Рассмотрим лексические и синтаксические показатели разговорности в речевой сфере лирического героя. В стихотворении «Вагон» впечатление разговорности на протяжении всего текста создается рядом особенностей, свойственных разговорной речи: «Стоял вагон, видавший виды, / где шлаком выложен откос. / До буферов травой обвитый, / он до колена в насыпь врос. / Он домом стал. В нем люди жили. / Он долго был для них чужим. / Потом привыкли. Печь сложили, / чтоб в нем теплее было им. / Потом – обойные разводы. Потом – герани на окне. / Потом расставили комоды » [5, с. 15]. В данном тексте автор использует парцелляцию простых предложений, эллипсис сказуемых в сочетании с анафорой, а также конструкции «рубленого синтаксиса». Следует сказать о ритмообразующей функции показателей разговорности в этом примере: короткие фразы, повтор слова «потом» подчеркивают рутинность происходящего, порождают предсказуемые паттерны, усиливая эмоциональное воздействие.
Невозможность заблаговременно продумать фразу, как считает О.Б. Сиротинина, мешает широко использовать в живой речи развернутые и сложные предложения, поэтому для разговорной речи особенно характерны короткие простые предложения, как бы нанизанные друг на друга [17, с. 81]. Подобные явления синтаксисты нередко именуют «рубленым синтаксисом» [10, с. 272].
С помощью синтаксических средств создания разговорности Е.А. Евтушенко воссоздает внутренний диалог лирического героя в поэтическом тексте «Перед встречей»: «Я шел, как будто был куда-то позван, / и лишь в пути задумался – куда? / Пойти в театр – уже, пожалуй, поздно. / Домой? Домой не поздно никогда. // Я – на вокзал, / и у окна кассирши, / едва оставшись в сутолоке цел, / один билет куда-нибудь спросивши, / зачем-то в поезд пригородный сел» [5, с. 13]. Вопросно-ответные конструкции не только помогают проследить размышления обычного человека, находящегося в состоянии неопределенности, но и выполняют текстообразующую функцию , составляя основу синтаксической структуры второй строфы. Эффект живой неподготовленной речи в данном примере также возникает благодаря подхвату « Домой? Домой не поздно никогда» [Там же]. Здесь важно отметить, что в разговорной речи при повторе говорящий как бы возвращает слушающего назад к уже произнесенному слову или фразе, тем самым обращает внимание на повторенные члены; в этом случае «повтор уже не вспомогательный элемент, восстанавливающий разговорные связи, а самостоятельное средство коммуникативного подчеркивания членов» [13, с. 375–376]. Кроме того, разговорность поэтического анализируемого произведения поддерживается конструкциями «рубленого синтаксиса» в четвертой строфе: «Он тронулся. / В вагоне тесно было. / Меня совсем притиснули к стене» [5, с. 13]; парцелляцией сложного предложения и неполным предложением в пятой строфе: «Две женщины судили и рядили, / ни от кого заботы не тая. / А люди все входили и сходили …» (однородные сказуемые входили и сходили предполагают наличие пространственного уточнителя) [Там же]; эллипсисом сказуемого (можно предположить, что в третьей строфе опущен глагол направленного движения – пошел, отправился : «Я пошел на вокзал». На лексическом уровне необходимо отметить использование разговорных слов: кассирша (кассир женского пола), притиснуть (плотно придавить, прижать, надавливая), авоська (сетчатая сумка для продуктов, мелких предметов) и т.п.
Следует сказать, что в речевой сфере адресата разноуровневые показатели разговорности представлены более ярко, чем в речевой сфере лирического героя. Данный факт обусловлен небольшим объемом текстовых фрагментов, составляющих основу речевой сферы адресата. В лирическом произведении «После праздника» с помощью сигналов разговорности Е.А. Евтушенко воссоздает живую речь старушки-кондуктора: «И вдруг мы увидели – / к стене прислонясь, / непрошеных слез не пряча, / старушка-кондуктор / глядит на нас, /глядит … / и плачет … / и плачет. / Мы замолчали. / Мы замерли оба, / глаз не сводя / с ее седой головы. / “Сына у меня … / в сорок первом … / бомбой … / Был бы сейчас / такой же, / как вы …”» [6, с. 11]. Слова пожилой женщины трижды прерываются: в ее реплике явно ощущается непроходящая боль из-за потери близкого человека. Многоточие в сочетании с эллипсисом сказуемого (предположительно, опущен глагол-сказуемое убило ) создают эмоциональные перебои речи. Кроме того, общая разговорность данного текста реализована благодаря конструкциям «рубленого синтаксиса» в начале произведения: «Она убежала. / Я обнял дружка закадычного. / Мы ввалились в трамвай. /Сегодня трамваи / ходили намного позднее обычного» [Там же, с. 10]; эмоциональным перебоям в речи лирического героя и повторам ( глядит на нас, глядит … и плачет … и плачет ); разговорным лексемам: дружок (приятель или товарищ), закадычный (близкий, задушевный; о друге, приятеле), ввалиться (войти куда-либо грузно, тяжело), драный (рваный, истрепанный, изношенный)*.
В стихотворении «Обидели …» у лирического героя два адресата: в начале поэтического текста мы становимся свидетелями примирения влюбленных после короткой ссоры: «Такси, / и снег в лицо, / и лепет милый: / “Люблю, – / как благодарна я судьбе! / Смотри – / я туфли новые купила. / Ты не заметил? / Нравятся тебе? / Куда мы едем?” / “Мой товарищ болен …” / “Как скажешь, дорогой … / Ах, снег какой! / Не верю даже – / я опять с тобою. / Небритый ты – / щекочешься щекой”» [5, с. 58]. Данный фрагмент диалога по своей организации очень близок к разговорному: благодаря коротким фразам, политематичности, предельному лаконизму предложений, непрямому порядку слов создается впечатление, что лирический герой и его возлюбленная именно разговаривают. Во второй части произведения в качестве адресата лирического субъекта выступает его заболевший друг: «В пути мы покупаем апельсины, / шампанского. / По лестнице идем. / Друг открывает дверь, / больной и сильный: / “Ух, молодцы какие, / что вдвоем!.. / Шампанское? / А я уж лучше водки. / Оно полезней …” <…> Мне говорит: / “Хандрить ты разучайся. / Жизнь трудная – / она еще не вся …” / И тихо-тихо: / “Вы не разлучайтесь. / Смотрите мне, ребята, – / вам нельзя”» [Там же, с. 59]. В речевой сфере друга лирического героя в первом предложении необходимо отметить эллипсис (предположительно, элиминировано сказуемое приехали), а также местоимение какой в роли эмоционального определения, означающего высшую степень положительного качества. Далее Е.А. Евтушенко использует риторический вопрос, обозначая выбор алкогольного напитка другими участниками коммуникации. Следующее предложение он вводит специфичной для живой неподготовленной речи частицей а. Авторы монографии «Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест» отмечают: «Частица а высокоупотребительна как начальный элемент фразы. Она функционирует как средство установления контакта, непринужденности» [14, с. 114]. В предложении «Жизнь трудная – / она еще не вся …» следует отметить употребление местоименного коррелята в форме им. п. Общая разговорность текста поддерживается парцелляцией однородных членов: «Обидели усмешливо и сыто. Задели на живое», «Молчит. Притих внимательно и нервно в руках платочек белый кружевной», «Уходим вскоре. Вот и покутили!»; умолчанием «В ее глазах заботливо и верно … Мне хочется назвать ее женой» [5, с. 58–59].
Проанализируем лексические и синтаксические показатели разговорности в речевой сфере «третьих» лиц. Поэтический текст «Настя Карпова» переносит нас в военное время: лирический герой рассказывает историю простой русской девушки, которая ждет своего мужа с фронта. Настя привлекает внимание разных мужчин, вместе с тем она остается верна любимому. В повествовании лирического героя Е.А. Евтушенко использует прямое цитирование: «Настя Карпова, / наша деповская, / говорила мне, пацану: / “Чем же я им всем не таковская? / Пристают они почему? / Неужели нету понятия – / только Петька мне нужен мой. / Поскорей бы кончалась, проклятая … / Поскорей бы вернулся домой …” <…> А один интендант военный, / в чай подкладывая сахарин, / с убежденностью откровенной / звал уехать на Сахалин: / “Понимаете, / понимаете – / это вы должны понимать. / Вы всю жизнь мою поломаете, / а зачем ее вам ломать!” <…> Он собой по-солдатски владел. / Не ругал ее и не бил он, / тяжело и темно глядел. / Складка / лба поперек / волевая. / Планки орденские на груди. / “Все вы тут, / пока мы воевали … / Собирай свои шмотки. / Иди”» [Там же, с. 262–263]. Прокомментируем приведенные фрагменты. В речевой сфере Насти Карповой разговорность представлена лексемами неужели (авторы монографии «Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест» отмечают, что частица неужели является одной из распространенных частиц в разговорной речи [14, с. 94]), нету (в Малом академическом словаре слово нету приводится со стилистической пометой разговорное [19, с. 486]); непрямым порядком слов «Пристают они почему?», дистантным расположением синтаксически связанных членов «Неужели нету понятия – только Петька мне нужен мой», эллипсисом определяемого слова («Поскорей бы кончалась, проклятая …» – элиминировано существительное война). Анафора «Поскорей бы кончалась, проклятая … / Поскорей бы вернулся домой …» воссоздает повтор, характерный для спонтанной речи простых людей. Спонтанность речи военного интенданта воссоздана с помощью повтора лексемы понимать, однокоренных глаголов поломать, ломать; тире в предложе- нии «Понимаете, / понимаете – это вы должны понимать» передает живое интонирование. В речевой сфере Петра, мужа Насти Карповой, необходимо отметить наличие конструкций «рубленого синтаксиса», неполное предложение «Все вы тут, пока мы воевали …» [5, с. 263].
Общеизвестно, что обращение к кратким, усеченным формам характерно для живой неподготовленной речи. Языковая компрессия связана преимущественно с тенденцией к языковой экономии. Из проанализированных примеров видно, что все эти явления (эллипсис, неполные и незавершенные предложения, парцелляция, конструкции «рубленого синтаксиса») активно отражаются в поэтических текстах Е.А. Евтушенко. Следовательно, синтаксические средства создания описываемой категории выполняют компрессивную функцию , воссоздавая тенденцию к речевой экономии в лирических произведениях. Не менее значимой является и характерологическая функция показателей разговорности: из приведенных выше фрагментов видно, что сигналы разговорности участвуют в создании образов, являются средством речевой характеристики. Следует сказать, что в этих целях Е.А. Евтушенко нередко использует просторечную, устаревшую, грубую, бранную, жаргонную лексику в качестве показателя невысокой культуры лирического героя, его адресата или «третьих» лиц. Приведем поэтические контексты, дающие представление об описываемом явлении:
Для поэтических текстов Е.А. Евтушенко особенно характерно употребление как разговорной, так и просторечной лексики.
Итак, проведенный анализ лирических произведений Е.А. Евтушенко показал следующие результаты. Разноуровневые средства создания разговорности являются важной характеристикой идиостиля автора. В речевой сфере участников поэтической коммуникации (лирического героя, его адресата и «третьих» лиц) широко представлены лексические (слова и выражения разговорного стиля) и синтаксические (конструкции «рубленого синтаксиса», эллипсис, парцелляция, неполные и незавершенные предложения и др.) показатели разговорности. Синтаксические средства выражения описываемой категории более распространены, чем лексические. Сигналы разговорности не только создают впечатление говорения , но и выполняют следующие функции: текстообразующую (участвуют в формировании и развитии текста, обеспечивая его связность и целостность); характерологическую (моделируют образы, речевые портреты героев в лирическом произведении); ритмообразующую (способствуют сохранению элементов метрического рисунка в поэтическом произведении); компрессивную (воссоздают тенденцию к речевой экономии в лирических произведениях).