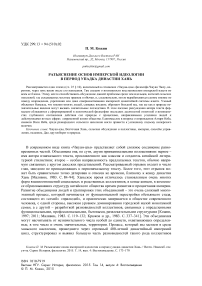Разъяснение основ имперской идеологии в период упадка династии Хань
Автор: Кожин Павел Михайлович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Переводы
Статья в выпуске: 4 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается один эпизод (гл. 25 § 10), включенный в сочинение «Чжуан-цзы» философа Чжуан Чжоу, вероятно, через пять веков после его написания. Там сказано о возможности восстановления имперской власти во всем ее блеске. Этому могло способствовать обсуждение данной проблемы среди земледельцев, жителей сельских поселений, где складывались местные правила и обычаи, и, следовательно, могло вырабатываться единое мнение по поводу возрождения, укрепления или даже совершенствования имперской династийной системы власти. Ученый объясняет Невежде, что мнения многих людей, сливаясь воедино, обретают большой вес, так же как в природе незначительные явления могут вызвать значительные последствия. В этом пассаже рассуждения автора текста формально сближаются с сформированной в политической философии последних десятилетий гипотезой о возможностях глубинного соотнесения действия сил природы с процессами, направляемыми усилиями людей и действующими во всех сферах современной жизни общества. Единомыслие в вопросе о возрождении Алтаря Неба, символа Воли Неба, среди разнородного сельского населения могло привести к успешному подъему имперского величия.
Чжуан-цзы, восточная хань, сельские обсуждения и коллективы, империя, способы управления, недеяние, дао, кругооборот в природе
Короткий адрес: https://sciup.org/147219318
IDR: 147219318 | УДК: 299.13
Текст научной статьи Разъяснение основ имперской идеологии в период упадка династии Хань
В современном виде книга «Чжуан-цзы» представляет собой сложное соединение разновременных частей. Объединена она, по сути, двумя принципиальными положениями: первое – имя автора изначального текста, прославленного как классик и создатель китайской литературной стилистики; второе – особая направленность предлагаемых текстов, обычно напрямую связанных с кругом даосских представлений. Рассматриваемый отрывок входит в число глав, заведомо не принадлежащих к первоначальному тексту. Более того, этот отрывок может быть сравнительно точно датирован и отнесен ко времени, близкому к концу династии Хань [Малявин, 1983. С. 84–94]. Ханьское время отличалось становлением очень многих форм взаимоотношений социальных и родственных коллективов, в конце концов, в комплексе образовывавших структуру китайского общества времен развития и процветания империи. Развитие объединения людей и группировки этих объединений – это очень сложный многоэтапный процесс, который начинается от функциональной перестройки обезьяньего стада, состоящего из «семей» «пралюдей», и практически завершается в обществе современного человека, с одной стороны, высоким уровнем доминирования городской малой моногамной семьи, а с другой – разработкой разновидностей коллективов, связанных с определенными функциональными, профессиональными, бытовыми, развлекательными структурами [Кожин, 1997; 2011; Малявин, 1983. С. 119–132; Крюков и др., 1983. С. 337–341]. Эти объединения могут насчитывать от незначительного числа особей до единств, охватывающих определенные, в том числе и очень значительные, территории. Процесс, который мы застаем в среде ханьского населения, прошедшего через огромный 400-летний династийный имперский цикл, структурировал и выявил большую часть разновидностей такого рода коллективов
Кожин П. М. Разъяснение основ имперской идеологии в период упадка династии Хань // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 173–179.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 4: Востоковедение
[Крюков, 1967. С. 76–106]. Однако развал империи, дающий о себе знать со второй половины II в. н. э., привел в молодом еще «имперском обществе» к значительным осложнениям в области осмысления целей, характера и прочности возникающих, в основном не родственных объединений. Здесь надо отдать должное имперским властям, которые даже в состоянии разрушения административного централизованного аппарата сумели перед массой населения поставить вопросы о необходимости осознания пользы такого рода коллективов и относительной их полезности в монолитном или дифференцированном обществе. Все эти вопросы были вынесены на общественное обсуждение именно к моменту конца ханьской династии. Так что к личности Чжуан-цзы, писателя и общественного деятеля IV в. до н. э., все это, естественно, не имело никакого отношения. Просто его авторитетом утверждалось положение о необходимости достижения взаимопонимания между людьми и их группами в этой невероятно сложной общественной обстановке. Соответствующие династийные истории сохранили сведения о такого рода обсуждениях, проходивших в разных частях страны и начинавшихся в среде самоуправляемых коллективов сельского земледельческого населения, расселенного по различным деревням и поселкам.
Правда, в описаниях этих сельских обсуждений преобладала идея о том, что их суть и задачи корректировались представителями неких «сильных домов», т. е. объединений наиболее богатых (а иногда и особо уважаемых) семей. В данном случае этот вопрос не актуален: важна сама постановка определенных задач этих сельских разговоров, которые были связаны с утверждением и распространением общественного единомыслия в широчайшей аграрной среде, включавшей жителей основных плотно заселенных территорий распадавшейся (а затем и распавшейся) древней империи. Речь идет именно о том, как может вырабатываться единомыслие, о том пути, на котором происходит накопление знаний, подтверждающих пользу групповой коллективной жизни.
Представляемый текст, как это обычно бывает в неаутентичных главах «Чжуан-цзы», существует как относительно обособленный фрагмент. Нельзя сказать, что он по своим формулировкам полностью соответствует общим тенденциям основных философских взглядов Чжуан-цзы, более близких к идеям основоположника даосизма, изложенным в трактате «Лао-цзы». В этом отношении особо обращает на себя внимание замечание о «безымянности десяти тысяч (множества) вещей». Ведь Лао-цзы особо выделил «вещи» как объекты, получившие наименование и тем самым твердо вошедшие в мир человеческих интересов.
Основной общей тенденцией для всех неаутентичных текстов «Чжуан-цзы» является стремление авторов дать разъяснения своих соображений в свете некоей натурфилософской конструкции. Все время идет перекличка между явлениями внешнего мира и особенностями их отражения либо взаимосвязи с различными обстоятельствами системы управления или духовных воззрений массы людей. В частности, затрагивается наиболее обширный слой земледельческого населения, которое получает в данных текстах разъяснение своих возможностей – влиять на определенные политические обстоятельства и их изменение. Самое основное, что постоянно подчеркивается в тексте, – как из частных мелких незаметных природных ситуаций и причин формируются крупные, большой значимости обстоятельства и события. Эта тенденция очень показательна. Она отражает основную общую идею, связанную с созданием империи и с желанием сохранить и расширить соответствующие коллективные единства. Фактически общий смысл данного фрагмента, рассматривающего разговоры земледельцев о будущем политическом устройстве страны, сводится к тому, что центростремительные тенденции являются наиболее положительным представлением в мыслях о будущем. Пожалуй, этот текст отражает идеологию, которую в то время старались привить широким земледельческим массам, с целью возродить, реанимировать имперские традиции и всенародными усилиями вновь восстановить государственное единство, способствующее развитию хозяйства, экономики и неких форм «всеобщего благоденствия». Ясно, что такая идеология получала определенную пропагандистскую поддержку и могла способствовать постепенному возврату от разделенного на части географического пространства эпохи Троецарствия к кратковременному, но сравнительно централизованному периоду империи Цзинь (конец III – IV в. до н. э.).
Прежде чем перейти к переводу, необходимо уделить некоторое внимание самому тексту и его осмыслению. Дело в том, что меня он заинтересовал не своими социологополитическими установками (об этом достаточно подробно, толково и интересно писал
В. В. Малявин [1983] в своей ранней исследовательской работе), а сочетанием в нем неких осмысленных формулировок с общей его аморфностью, нелогичностью и даже, можно сказать, бессмысленностью. Обращение к переводам (Дж. Легг, Л. Д. Позднеева, В. В. Малявин) только усиливало это впечатление. В конце концов, три фразы в переводе В. В. Малявина (см.: [Чжуан-цзы. Ле-цзы, 1995. С. 229]) вынудили меня перечитать текст по знакам, в соответствии с теми приемами, которые я использую при чтении текста Лао-цзы [Кожин, 2012. С. 153]. При этом я руководствовался общей установкой, заданной этому эпизоду, причастностью его к «сельским рассуждениям» (весьма удачное определение В. В. Малявина [1983. С. 181]. Это было необходимо в связи с обилием в данной небольшой заметке особо многозначных иероглифов и наличием среди них знаков, отсутствующих в «Шу цзине», «Ли цзи» или «Ши цзине». Фразы же эти таковы: «Великий человек, усваивая одно за другим частные мнения, становится беспристрастным. Он остается господином всякому приходящему извне суждению и ни к одному из них не склоняется. Внутри него есть как бы управляющий, который не позволяет исходящему из него мнению быть пристрастным» [Чжуан-цзы. Ле-цзы, 1995. С. 229]. Современные представления об индукции, законах статистики прямо таки витают над этими фразами. Мне показалось важным выяснить степень «первичности» этих соображений.
Итак, перехожу к передаче смыслового содержания данного эпизода. Некто неосведомленный просит у знатока (политика, администратора, философа?) разъяснения о том, что такое обсуждения в крупных сельских поселениях ( цю ) и поселках ли (хуторах, выселках и т. п.), где формируются и изменяются нравы и обычаи. Эти сельские поселения могут объединять представителей десятка группировок родственников по материнской линии ( син ) [Крюков, 1967. С. 106–127] и сотни индивидуумов ( бай мин – сотня имен). Таким образом подчеркивается «разношерстная» среда этого населения, в которой могли сосуществовать противоречивые суждения по общественным и политическим вопросам, а требовалось достичь единства мнений.
Метод для этого предлагается вполне своеобразный: если рассматривать лошадь как набор частей тела, то представить ее себе как полноценное живое существо не удастся. Однако она как такое существо предстает перед наблюдателем (значит, ему предлагают смириться с тем, что реальность может не соответствовать ухищрениям теоретиков, и надо просто принять очевидность). Действительность преображается также, когда из холмов и пригорков вырастают горы, реки и ручьи сливаются в большие потоки, а выдающиеся особы становятся крупными владетелями и под их началом собирается много людей из разных местностей и семейств. Но когда зависимых не угнетают, они способны, свободно общаясь в своей (даже разнородной) среде, вырабатывать свое общее независимое суждение о происходящем в стране. Современного читателя не должно смущать проявляющееся здесь чисто внешнее соотнесение природных и социальных процессов, будто бы сближающее классические представления о синергетике с возникшей недавно ее социальной трактовкой [Кожин, 2012. С. 154]. В древнем тексте – это всего лишь демонстрационный прием, вскрывающий не генетическую связь, а логический параллелизм явлений.
Таким образом, ничто не мешает естественному порядку в стране свободно осуществляться, и разнородные сырьевые материалы могут быть использованы для создания Алтаря Неба, т. е. главной святыни империи.
Этим изложением достаточно внятно выявляются два принципиальных обстоятельства, указывающих, с одной стороны, на четкое осознание китайскими авторами общих законов логического мышления, определяющегося самой физиологической обоснованностью мыслительных способностей и операций, производимых человеком, а с другой – на полную независимость аргументации и методов обоснования выводов от традиционных приемов и терминов западной, индо-европейско-семитской (здесь я не касаюсь степени ее собственного внутреннего единства) философской системы. Я сожалею, что мне остались неведомы конкретные наблюдения Л. Леви-Брюля, позволившие ему заметить те же особенности китайского научного мышления в переводах Э. Шавана 1, но его соображения оспорены не были, что укрепляет и мои позиции, которые я стараюсь излагать, как обычно [Кожин, 2000. С. 39], литературным просторечием, чтобы не подпадать под сковывающее действие терминологических ограничений.
Вставки в текст даны в квадратных скобках, возможные варианты перевода – в круглых.
ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА ИЗ ТРАКТАТА «ЧЖУАН-ЦЗЫ» i
Шао чжи ii обратился к Тайгуну с просьбой объяснить, что такое разговоры (обсуждения) в цю и ли. Тайгун объяснил: цю и ли iii – это объединение десяти син iv и ста имен. Там формируются обычаи (нравы). Соединяют несходное, становится подобным. Распространяют подобное, оно делается несходным (различным).
Вот у лошади определяют сто членов тела. А лошадь не составляется из этих членов. Но лошадь – целый организм перед нами: стоят эти сто частей тела и называются «лошадь» v. Таким же образом, холмы и пригорки громоздятся и становятся высокими. Реки и речки vi соединяются в потоки и становятся большими. Большие люди объединяются и становятся гунами . Вследствие этого свои и чужие взаимодействуют. [Они] имеют хозяев, но их не обуздывают (не принуждают). По этой причине образуется (рождается) среднее: устанавливается соответствие, и нет ему противодействия.
Четыре сезона года обладают каждый особым ци vii. А небо это не беспокоит (небо к этому равнодушно), поэтому год успешно завершается. Пять государственных ведомств имеют каждое особые обязанности. Правитель [в них] не вмешивается (занят своими делами). Потому государство [правильно] управляется. {Вэнь и У viii – великие люди не оставались безразличны, по причине своей исключительной добродетели}.
Десять тысяч вещей различно упорядочены. Дао не вмешивается, и поэтому [они] безымянны. Будучи безымянными, они поэтому бездействуют. Но и не действуя, они [все равно] активны. Время имеет конец и начало. Веками происходят изменения то к худшему, то к лучшему. Беда и удача перемежаются ix, то возникают противодействия, то ситуация доставляет радость; либо одно, либо другое. Производятся правильные действия, но случаются и ошибки. Вот с большой щедростью отмеривают сто видов сырья. Так подумаем: соединит ли большая гора дерево и камни в алтарь Неба? Вот что можно сказать о собеседованиях в цю и ли.
Примечания
i Перевод выполнен по изд.: [Цянь Му, 1962. С. 217–218].
ii Я считаю несообразным вставлять в текст переведенные имена. Собственно, такой подход правомочен: в имени важен денотат, а не его качества. Даже тогда, когда значение имен понятно, а в китайских именах оно всегда понятно, смысл имени не акцентируется. Имя обладает персонифицирующим, а вовсе не провоцирующим к особой оценке личности значением. Эта проблема сейчас в связи с ростом интереса к переводам китайской литературы вновь начинает обсуждаться [Лу Си, 2014. С. 42]. Но так как имена для данного контекста значимы, соответственно переведу их как «Мало знающий» и «Великий гун ». Гун – вельможа или самостоятельный правитель в древнекитайских табелях о рангах, которым со времен Э. Шавана старательно приписывали французские соответствия, что всегда вносит в исследовательский текст дополнительный элемент путаницы.
iii Я не стал переводить эти обозначения (о них см.: [Кожин, 2014. C. 49]). В английском переводе Дж. Легга (1891) 2 они представлены, соответственно, как Hamlet и Village («хутор, деревенька» и «деревня, село»). Но, пожалуй, их следует поменять местами: цю – больше соответствует второму из них, переводимому, скорее, как село. Л. Д. Позднеева (см.: [Атеисты, материалисты…, 1967. С. 370, примеч. 16]) не придает значения различию в наименовании селений. Однако переводит комментарий некоего Ли И, где сообщается, что «в древности» между целым рядом сельских группировок существовали определенные числовые соотношения, в частности, десять семей (размеры семей, конечно, не указаны) где-то могли составлять цю, а 20 – ли. Такие неопределенные по времени данные типичны для китайского традиционного комментирования: они не имели фиксированной ранней даты (которая могла предшествовать рассматриваемому моменту), а поздняя могла быть раньше времени жизни комментатора на неопределенный срок. Это лишает подобный «комментарий» значения.
iv Термин син я условно перевожу как «родственная группа». Л. Д. Позднеева (см.: [Атеисты, материалисты…, 1967. С. 275]) без комментария пишет «фамилия»; В. В. Малявин (см.: [Чжуан-цзы. Ле-цзы, 1995. С. 229] вторит ей. Китайские комментарии к данному тексту не актуальны, а приведенная выше отсылка к главе работы М. В. Крюкова сама требует критического разбора.
v А. Ч. Грэм [Graham, 1978. P. 461] особо выделил и перевел этот пассаж, хотя интерес к лошади, ее физическим особенностям, начиная с IV в. до н. э., стал резко возрастать в народной среде в связи со становлением китайской кавалерии.
vi Дж. Легг воспринял эти знаки как бином – традиционное объединенное обозначение двух крупнейших рек Китая, Хуан хэ и Янцзы цзян а. Л. Д. Позднеева просто указала – «реки», В. В. Малявин добавил – «и озера». Топонимика бассейна Хуанхэ показывает, что хэ здесь иерархически выше цзяна , возможно, этот момент косвенно указывает, что данный текст записан на Севере империи.
vii Понятие ци я предпочитаю не переводить, так как огульное его обозначение в переводах как «пневма» вносит дополнительную невнятицу в наши не только общепринятые, но и научные оценки китайской исследовательско-познавательной терминологии.
viii Этот бином принадлежит к числу наиболее устойчивых. Имена этих чжоуских правителей бывают слиты воедино не только в песнях «Ши цзина», но даже и в позднечжоуской «бронзовой эпиграфике». Фраза же своей малой понятностью напоминает типичную врезку начетчика в текст, смысл которого не очень его увлекал. Поэтому я и поставил эту фразу в фигурные скобки.
ix Я следую за комментарием к основному тексту, в силу того, что удвоенный знак обозначает издревле глагол, в моих основных источниках отсутствующий.
Список литературы Разъяснение основ имперской идеологии в период упадка династии Хань
- Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая: Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы (VI- IV вв. до н. э.) / Вступ. ст., пер., коммент. Л. Д. Позднеевой. М.: ГРВЛ, 1967. 404 с.
- Кожин П. М. Традиции в системе этноса // Этнографическое обозрение. 1997. № 6. С. 4-6.
- Кожин П. М. Начальные этапы формирования родственных и социальных коллективов в свете представлений проф. В. В. Бунака об эволюции человека и его сознания (на путях решения загадок Пигмалиона) // Вестн. антропологии. 2011. Вып. 19. С. 25-31.
- Кожин П. М. Значение альтернатив в аналитическом методе «Даодэцзина» // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 10: Востоковедение. С. 151-155.
- Кожин П. М. Доистория сельского самоуправления в Китае // Общество и государство в Китае. М.: Изд-во ИВ РАН, 2014. Т. XLIV, ч. 1. С. 44-50.
- Крюков М. В. Формы социальной организации древних китайцев. М.: ГРВЛ, 1967. 201 с.
- Крюков М. В., Переломов Л. С., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М.: ГРВЛ, 1983. 415 с.
- Лу Си. Престиж в глазах других - трудности в процессе выхода Китайской литературы за рубеж // Китай. 2014. № 9. С. 40-43.
- Малявин В. В. Гибель древней империи. М.: ГРВЛ, 1983. 224 с.
- Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер. с кит., вступ. ст. и примеч. В. В. Малявина. М.: Мысль, 1995.
- Graham A. C. Later Mohist Logic, Ethics and Science. Hong Kong: Chinese Univ. Press; London: School of Oriental and African Studies, 1978. XV, 590 p.
- Zhuangzi (Text with English translation by J. Legg) (1891) // Цифровая б-ка Chinese Text Project, авт. проект Дональда Стёрджэна (D. Sturgeon). URL: http://ctext.org/zhuangzi (дата обращения 10.01.2015).
- Цянь Му. Чжуанцзы цзуаньцзянь [钱穆。庄子纂笺:增订4版。香港:东南印务出版社, 1962]. «Чжуан-цзы»: Отредактированный текст с комментариями. Сянган: Дуннань иньу чубаньшэ, 1962. 10, 280 с.