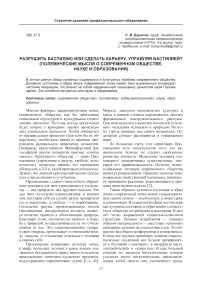Разрушить Бастилию или сделать карьеру, управляя Бастилией? (полемические мысли о современном обществе, науке и образовании)
Автор: Борисов С.В.
Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo
Рубрика: Стратегия развития профессионального образования
Статья в выпуске: 1 (1), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье дается обзор основных социальных и культурных проблем современного общества. Духовное состояние и образ жизни современной эпохи имеют ярко выраженные антимодер-нистские тенденции, что влечет за собой кардинальную переоценку ценностей идей Просвещения. Это особенно актуально для науки и образования.
Современное общество, постмодерн, киберпространство, наука, образование
Короткий адрес: https://sciup.org/14213345
IDR: 14213345 | УДК: 37.0
Текст научной статьи Разрушить Бастилию или сделать карьеру, управляя Бастилией? (полемические мысли о современном обществе, науке и образовании)
Просвещение с самого начала было обременено роковым для него стремлением к господству — над природой, над другими людьми. Эти два типа господства взаимосвязаны, и именно они, поставив себе на службу разум, превратили его в неразумие, а свободу — в порабощение. Господство разума, провозглашенное эпохой Просвещения, инструментом которого является понятие, привело к объективации природы. Благодаря этому человечество выжило в борьбе с природой, но расплачивается за это отчуждением от нее. Это «опредмечивание» теперь, в свою очередь, пронизывает и отношения между людьми, и отношение отдельного человека к самому себе.
Просвещение возвращает культуру назад, к мифу, поскольку человек в конце концов оказывается беззащитным перед лицом тотального принуждения: «анимизм одушевлял предметы, индустриализм опредмечивает души» [1, с. 45].
По большому счету, этот «приговор» Просвещению есть свидетельство того, что рациональное больше не служит свободному развитию личности. Мышление человека «одномерно» увековечивает существующее, маскируя его иррациональность. Поэтому психосоциальная ситуация современного общества является репрессивной. Принцип удовольствия, изначально свойственный влечениям, заменяется принципом реализма, выродившимся в принцип производительности [2].
Таким образом, духовное состояние и образ жизни современной эпохи можно охарактеризовать одним словом — постмодерн , а может даже и антимодерн . В социальной сфере постмодерн как духовное состояние и образ жизни соответствует обществу потребления и массмедиа. В нем нет четко выраженной социально-классовой структуры. Уровень потребления — главным образом материального — выступает основным критерием деления на социальные слои. Это общество всеобщего конформизма и компромисса. К нему все труднее применять понятие «народ», поскольку последний все больше превращается в безликий «электорат», в аморфную массу «потребителей» и «клиентов». В еще большей степени это касается интеллигенции, которая уступила место интеллектуалам, представляющим собой просто лиц умственного труда.
Число таких лиц возросло многократно, однако их социально-политическая и духовная роль в жизни общества стала почти незаметной. Постмодерн лишил их прежних привилегий. «Раньше интеллектуалы вдохновляли и вели народ на взятие Бастилий, теперь они делают карьеру на управлении Бастилиями». Интеллектуалы уже не претендуют на роль властителей дум, довольствуясь исполнением более скромных функций. В наши дни писатель и художник, творец вообще уступают место журналисту и эксперту.
Кого же все-таки можно назвать типичными фигурами современного общества? Это «яппи» (аббревиатура «YUPPIE», сокращенно от Young Urban Professional Person), что в буквальном смысле означает «молодой горожанин-профессионал». Это преуспевающий представитель среднего слоя, лишенный каких-либо «интеллигентских комплексов», целиком принимающий удобства современной цивилизации, умеющий наслаждаться жизнью, хотя и не совсем уверенный в своем благополучии. Он отказывается от самоограничения и тем более аскетизма, столь почитаемых когда-то протестантской (и советской) этикой. Он склонен жить одним днем, не слишком задумываясь о дне завтрашнем и тем более о далеком будущем. Главным стимулом для него становится профессиональный и финансовый успех, причем этот успех должен прийти не в конце жизни, а как можно раньше. Ради этого он готов поступиться любыми принципами.
Это, пожалуй, еще и «зомби» (от искаженного «нзамби», что на африканском языке банту означает «душа мертвеца» или «привидение»), представляющие собой запрограммированные существа, лишенные личностных свойств, неспособные к самостоятельному мышлению. Это в полном смысле слова массовые люди, лишенные самосознания, которых можно сравнить с видео-аудио-приставками, подключенными к телевизору или Интернету, без которых они теряют свою жизнеспособность.
В современном обществе все формы идеологии выглядят размытыми и неопределенными. Господствует « софт-идеология », то есть мягкая, нежная, ненавязчивая. Она уже не является ни левой, ни правой, в ней мирно уживается то, что раньше считалось несовместимым.
Что же можно сказать по поводу мировоззренческих установок современного человека? Это своеобразный фатализм. Его особенность состоит в том, что человек уже не воспринимает себя в качестве хозяина своей судьбы, который во всем полагается на самого себя, всем обязан самому себе. Конечно, яппи выглядит весьма активным, деятельным и даже самоуверенным человеком. Однако он понимает, что слишком многое в его жизни зависит от игры случая, удачи и везения. Он не может сказать, что начинал с нуля и всего достиг сам. В таком случае теряют свое значение такие понятия, как цель и смысл жизни. Цель перестает быть важной ценностью. Причиной тому служит опять-таки разочарование в идеалах и ценностях, в исчезновении будущего, которое оказалось как бы украденным. Все это ведет к усилению нигилизма и цинизма. Нынешний цинизм во многом вызван как раз разочарованием в модернистских идеалах Просвещения (разум, наука, прогресс). Цинизм постмодерна проявляется в отказе от многих прежних нравственных норм и ценностей. Этика в современном обществе уступает место эстетике, принимающей форму гедонизма, где на первый план выходит культ чувственных и физических наслаждений.
В культурной сфере господствующее положение занимает массовая культура, а в ней — мода и реклама. Моду можно считать определяющим ядром не только культуры, но и всей современной жизни. Она в значительной мере выполняет ту роль, которую раньше играла идеология. Мода все освящает, обосновывает и узаконивает. Все, что не прошло через моду, не признано ею, не имеет права на существование, не может стать элементом культуры. Даже научные теории, чтобы привлечь к себе внимание и получить признание, сначала должны стать модными. Их ценность зависит не столько от внутренних достоинств, сколько от внешней эффектности и привлекательности. Однако мода, как известно, капризна и мимолетна.
Современную культуру характеризует также зрелищность, театрализация. Театрализация охватывает многие области жизни. Практически все существенные события принимают форму яркого и эффектного шоу. Например, театрализация пронизывает политическую жизнь. Политика при этом перестает быть местом активной и серьезной деятельности человека-гражданина, но все больше превращается в шумное зрелище, становится местом эмоциональной разрядки. Политика все больше наполняется игровым началом, спортивным азартом, хотя ее роль в жизни общества не уменьшается и даже возрастает. В некотором смысле политика, мода, спорт становятся элементами квази-религии современного человека.
К характеристике современного общества следует добавить также и то, что современные люди постепенно обретают новую родину — киберпространство, новый дом сознания. Данное пространство не подконтрольно государству. У него есть своя культура, своя этика и свои неписаные законы, которые обеспечивают ему, может, даже больший порядок, чем тот, которого можно достичь наказаниями и запретами.
Что же представляет собой киберпространство и как оно организуется? Оно состоит из взаимодействий и отношений, мыслит и выстраивает себя подобно волнам в сплетении коммуникаций. Его мир одновременно везде и нигде, но только не там, где живут тела его представителей. В этом мире кто угодно и где угодно может высказывать свои мнения, какими бы экстравагантными они ни были, не испытывая страха, что его принудят к молчанию или согласию с мнением большинства.
Возможность направления и контролирования информационных потоков не более чем иллюзия. Все более и более устаревающая «информационная промышленность» государств желала бы увековечить свое господство, выдвигая законы, требующие права собственности на мысли и способы их выражения. Эти законы, по сути, рассматривают идеи как одну из разновидно стей промышленного продукта. Однако в мире киберпро странства все, что способен создать человеческий ум, может репродуцироваться и распространяться до бесконечности безо всякой платы. Для глобальной передачи мысли «информационные заводы» и «авторские права» на их продукцию больше не требуются [3].
Что касается науки, то и она подвергается со стороны постмодерна серьезной критике. Наука перестает быть привилегированным способом познания, лишается прежних претензий на монопольное обладание истиной. Постмодерн отвергает ее способность давать объективное, достоверное знание, открывать закономерности и причинные связи, выявлять предсказуемые тенденции. Наука подвергается критике за то, что абсолютизирует рациональные методы познания, игнорирует другие методы и способы: интуицию, воображение, переживание мистического.
Как ни странно, но изменение роли и значения научного знания в современном обществе произошло во многом благодаря его собственному продукту — техническому прогрессу. Научное знание стало стремительно терять свою прежнюю легитимность. Катализатором данного процесса явились современная наука с ее неопределенностью, неполнотой, неверифици-руемостью, катастрофичностью, парадоксаль- ностью и методология науки с ярко выраженной экстерналистской направленностью. Все это вытеснило «великие рассказы» о диалектике природы и просвещении, антропологии, истине, свободе и справедливости, основанные на духовном единстве, консенсусе между говорящими. Постмодерн, проистекающий из развития научно-технического прогресса, привел к распаду «энциклопедической структуры» науки, где каждая ее отрасль занимала строго отведенную ей территорию. Классическое определение границ различных научных дисциплин подвергается постоянному пересмотру [4].
В классической научной парадигме изначально господствовал дух позитивизма, вытеснив традиционное знание или знание, данное в откровении (интуитивно). Для научного доказательства требуется расширение приборного комплекса, а это, в свою очередь, всегда требует дополнительных затрат. Следовательно, без денег нет ни доказательства, ни проверки высказываний, ни истины. Отсюда вывод: скорее желание обогатиться, чем познать, двигало научно-техническую революцию , ведь ученых, техников и аппаратуру покупают не для того, чтобы познать истину, но чтобы увеличить производительность и прибыль [4].
Ныне, в эпоху информатизации и виртуализации, идет процесс сильной экстериориза-ции знания относительно «знающего», на какой бы ступени познания он ни находился. Старый принцип, по которому получение знания неотделимо от формирования разума и даже от самой личности, устаревает и выходит из употребления. Новое отношение к знанию, по сути, имеет форму отношения производителей и потребителей товаров, т. е. стоимостную форму. Знание производится и будет производиться для того, чтобы быть проданным, оно потребляется и будет потребляться, чтобы обрести стоимость в новом продукте, и в обоих этих случаях, чтобы быть обмененным. Оно перестает быть самоцелью. В связи с этим национальные государства, академии, университеты лишаются привилегий в отношении производства и распространения знания.
Постмодерн утверждает, что наука — это просто одна из многих форм мышления, разработанных людьми, и не обязательно самая лучшая. Она ослепляет только тех, кто уже принял решение в пользу определенной идеологии или вообще не задумывается о преимуществах и ограничениях науки. Поскольку принятие или непринятие той или иной идеологии следует предоставлять самому индивиду, следователь- но, как некогда произошло отделение церкви от государства, так же следует ожидать отделение науки от государства.
Мысль о том, что наука может и должна развиваться согласно фиксированным и универсальным правилам, является и нереальной, и вредной. Она нереальна, так как исходит из упрощенного понимания способностей человека и тех обстоятельств, которые сопровождают или вызывают их развитие. И она вредна, так как попытка придать силу этим правилам должна вызвать рост нашей профессиональной квалификации за счет нашей человечности. Вдобавок эта мысль способна причинить вред самой науке, ибо пренебрегает сложностью физических и исторических условий, влияющих на нее. Это делает науку менее гибкой и более догматичной. Современная наука просто подавляет своих оппонентов, а не убеждает их. Наука действует с помощью силы, а не с помощью аргументов. Скептицизм сводится к минимуму; он направлен на мнения противников и незначительные разработки собственных основных идей, однако никогда — на сами фундаментальные идеи. Наука не готова сделать теоретический плюрализм основанием научного исследования.
То, что в науке решающую роль играют только факты, логика и методология, не более чем сказочка для непосвященных. Как факты могут что-либо решать? Какова их функция в развитии познания? Ведь мы не можем вывести из них наши теории. Мы не можем также задать и негативный критерий, сказав, например, что хорошие теории — это такие теории, которые могут быть опровергнуты, но пока еще не противоречат какому-либо факту. Принцип фальсификации, устраняющий теории на том основании, что они не соответствуют фактам, устранил бы всю науку (или пришлось бы допустить, что обширные части науки неопровержимы).
Да, новые теории часто предсказывают новые явления, однако почти всегда за счет ранее известных явлений. Обращаясь к логике, мы увидим, что даже наиболее простые ее требования не выполняются в научной практике (так называемая «трилемма Мюнхгаузена») и не могут быть выполнены вследствие сложности материала. Идеи, которые ученые используют для представления известного и проникновения в неизвестное, очень редко согласуются со строгими предписаниями логики или чистой математики, и попытка подчинить им науку лишила бы ее той гибкости, без которой прогресс невозможен. Таким образом, мы видим, что одних фактов недостаточно для того, чтобы заставить нас принять или отвергнуть научную теорию, они оставляют мышлению слишком широкий простор; логика и методология же многое устраняют, поэтому являются слишком узкими.
В чем же тогда заключается специфика успешной научной деятельности? В том, что между этими двумя полюсами располагается вечно изменчивая область человеческих идей и желаний. И более тщательный анализ успешных ходов в научной игре («успешных» с точки зрения самих ученых) действительно показывает, что существует широкая сфера свободы, требующая множе ственности идей и допускающая использование демократических процедур (выдвижение — обсуждение — голосование), однако в действительности эта сфера ограничена давлением политики и пропаганды. Сказочка о специальном научном методе скрывает свободу решения, которой обладают творческие ученые. Большинство же граждан подвергаются массированной идеологической обработке в научных учреждениях (они прошли длительный курс обучения), поддаются этой обработке (они выдержали экзамены) и поэтому твердо убеждены в истинности этой сказочки.
Разделение науки и не науки не только искусственно, но и вредно для развития познания. Если мы действительно хотим понять природу, если мы хотим преобразовать окружающий мир, мы должны использовать все идеи, все методы, а не только небольшую избранную их часть. Современная наука вовсе не столь трудна и не столь совершенна, как стремится внушить нам пропаганда науки. Такие ее области, как медицина, физика или биология, кажутся трудными лишь потому, что их плохо преподают; что существующие учебные разработки просто полны лишнего и бесполезного материала [5].
Но в таком случае необходимо пересматривать и всю систему трансляции знания, всю систему образования. В настоящее время в педагогике, как нигде, ощущается острый недостаток философских идей. Поиски и споры, ведущиеся в современном образовании, можно было бы сконцентрировать на вопросе: «По какому из трех путей идти?». Один путь — продолжать традицию образования, сложившуюся во второй половине XIX — первой половине XX столетия и хорошо зарекомендовавшую себя в школах индустриального общества. Второй — отказ от традиционного образования и замена его принципиально другим. Третий путь — реформа современной школы, позволяющая, не отказываясь от сложившихся традиций, реагировать на новые требования жизни.
Современный тип школы и образования сложились относительно недавно, в XIX столетии, во многом под влиянием и «по образу и подобию» классической науки. Они основаны на представлении об образовании как системе подготовки человека в школе, ориентированной на его природу и психическое развитие. В результате идет формирование человека знающего, разумного, подготовленного к зрелости. И всему этому способствует особое содержание образования (учебные знания и предметы). При этом школа, как правило, является организацией, государственным учреждением. Школьная дисциплина, класс, преподавание предметов, структурированных по отраслям наук, разделение труда (учитель учит и воспитывает, а ученик учится и воспитывается), вся школьная организация (коллектив учителей и школьная администрация — с одной стороны, и учащиеся, обязанные соблюдать дисциплину и школьные установления, — с другой) в значительной мере обязаны особенностям этой культурной традиции, характерной для организации производственных процессов и отношений индустриального общества.
Однако трактовка целей и содержания образования через «наукообразное» знание и познание ставит школу в сложную ситуацию: объем знаний и количество дисциплин растут на несколько порядков быстрее, чем совершенствуются методы и содержание образования. В результате школа оказывается перед дилеммой: или учить небольшой части знаний и предметов из тех, которые реально востребованы в современном обществе, или набирать отдельные знания из разных предметов и дисциплин. Однако и то, и другое не решает проблему современного образования, потому что представление о научении и развитии, обусловленное усвоением «наукообразных» знаний, плюс классно-урочная (лекционно-семинарская) система преподавания обрекают учащихся на принципиальную пассивность, их личность оказывается задействована лишь в узком спектре: внимание, слушание, понимание, воспроизведение.
На протяжении всего прошлого столетия жизнь людей быстро менялась, в культуре возникли острые противоречия, перешедшие в глобальные кризисы, только школа, по сути, осталась неизменной. Изменения в культуре, конечно, происходили и раньше, но в данном случае преобразования и метаморфозы были столь существенны, что возникли условия для формирования новой культурной коммуникации. В частности, идеи дисциплины, управления, ор- ганизации, культ специалиста постепенно стали отходить на второй план, на первый выходит другое: идеи сосуществования, культивирования жизни и природы, признания и понимания чужой точки зрения, диалога, сотрудничества, совместного действия, уважения личности и ее прав.
Сейчас можно говорить о четырех основных образовательных системах: традиционной европейской (система подготовки человека в школе, ориентированная на закономерности его развития и требования социума); прагматической американской (ориентация на решение практических задач, обучение на множестве эмпирических ситуаций, постепенное обобщение этих ситуаций, проектность, вариативность учебных программ); более ранней религиозноэзотерической (усвоение священных текстов и соответствующего мироощущения, истолкование их учителями, приобщенными к традиции и пр.); наконец, формирующейся в наше время новой «сетевой» образовательной системе, ориентированной на идеи корпоративности, конструктивности, рефлексивности.
Понятно, что менее всего современным условиям соответствует первая образовательная система (модель «конвейера»). Она обрекает учащегося на пассивное слушание, усвоение знаний и навыков, которые чаще всего не понадобятся; эта система способствует формированию представлений, затрудняющих человеку жизнедеятельность в современных условиях. Но и другие системы не лишены недостатков. Тем не менее все они задействованы в современной культуре, за каждой из них стоят свои культурные и институциональные реалии, которые по-прежнему воспроизводятся и востребованы определенными слоями общества.
Так что же нужно сделать, чтобы образование стало действительно значимым и эффективным? Для начала необходима серьезная критика и рефлексия (и концептуализация), то есть современной теории и практике образования необходим второй («рефлексивный») слой. Задачи третьего слоя («коммуникативного») — обсуждение общих условий современного образования (экономических, социальных, культурных), анализ возможных организационных форм образования, обсуждение серьезной политики в сфере образования, назначения и особенностей разных образовательных практик и программ, наконец, реализация проектов, направленных на обновление современного образования. Стоит отметить, что второй и третий слои являются не только сферой теоретизирования, но и сферой профессиональной практики и общения.
Ясно, что без других людей новый человек не в состоянии выстроить нужное для него сетевое сообщество для получения действительно качественного и эффективного образования. Но он может выступить инициатором и активно участвовать в его формировании. Без общества новый человек не может себя реализовать, но каким образом он входит в общество, как он организует общественную среду, какие отношения устанавливает с другими людьми, какие источники здесь находит и конституирует — все это зависит от него самого. Иначе говоря, подобно современной корпорации новый человек должен стать менеджером самого себя, создать собственный мир и траекторию жизни.
Мир знаний эпохи постмодерна — это мир, управляемый игрой с исчерпывающей информацией, в том смысле, что она в принципе до-
Список литературы Разрушить Бастилию или сделать карьеру, управляя Бастилией? (полемические мысли о современном обществе, науке и образовании)
- Хоркхаймер М. Диалектика просвещения: Философские фрагменты /М. Хоркхаймер, Т.В. Адорно. -М.: Медиум; СПб.: Ювента, 1997. -312 с.
- Маркузе, Г. Одномерный человек /Г. Маркузе. -М.: АСТ, 2009. -331 с.
- Барлоу Д.П. Декларация независимости киберпространства /Д.П. Барлоу. -Режим доступа: http://www.average.org/freespeech.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна /Ж.-Ф. Лиотар. -М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. -160 с.
- Фейерабенд П. Против метода: Очерк анархистской теории познания /П. Фейерабенд. -М.: АСТ, 2007. -413 с.