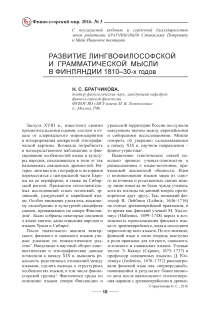Развитие лингвофилософской и грамматической мысли в Финляндии 1810-30-х годов
Автор: Братчикова Надежда Станиславовна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
Характеризуются основные лингвофилософские идеи и труды, получившие развитие в Финляндии в первой трети XIX в. На научной арене первой трети XIX в. появились яркие ученые, возглавившие фенноманское движение и внесшие существенный вклад в развитие финского языкознания. Большое значение для развития финского языка и культуры имели научные общества, организуемые в Финляндии.
Фенноманское движение, лексикографическая практика, орфографическая норма, "борьба диалектов", падежная парадигма, морфология и синтаксис финского языка
Короткий адрес: https://sciup.org/14723293
IDR: 14723293
Текст научной статьи Развитие лингвофилософской и грамматической мысли в Финляндии 1810-30-х годов
ФГБОУ ВО «МГУ имени М. В. Ломоносова»
(г. Москва, РФ)
Заслуга XVIII в., известного своими просветительскими идеями, состоит в отказе от клерикального мировосприятия и игнорирования конкретной этнографической картины. Возникла потребность в непосредственном наблюдении и фиксировании особенностей языка и культуры народов, находившихся в тени от так называемых священных древностей. Интерес лингвистов, географов и историков переместился с центральной части Европы на ее периферию, а также на Сибирский регион. Предметом сопоставительных исследований стали эстонский, эрзянский, удмуртский и марийский языки. Особое внимание уделялось языковому своеобразию и культурной специфике саамов, проживавших на севере Финляндии1. Были собраны некоторые сведения о языке хантов; даны описания народов и языков Урала и Сибири2.
После тщательного анализа венгерского, финского и саамского языков ученые доказали их генеалогическое род-ство3. Введенные в научный оборот лингвистические и этнографические данные позволили к началу XIX в. выяснить реальность родственных отношений между языками, сделать выводы о структурных особенностях языков, в том числе финноугорской группы4. Фактически труды по описанию языков севера Финляндии и уральской территории России послужили связующим звеном между европейскими и сибирскими исследованиями. Можно говорить об уверенно складывавшемся к началу XIX в. научном направлении – финно-угристике5.
Выявление генетических связей невольно привело ученых-лингвистов к размышлениям о языке-источнике, праязыковой диалектной общности. Идея о возникновении языков мира из одного источника и родственных связях между ними никогда не была чужда ученым, хотя их взгляды на данный вопрос противоречили друг другу. Так, немецкий философ В. Лейбниц (Leibniz, 1646-1716) не считал древнееврейский праязыком, в то время как финский ученый М. Халле-ниус (Hallenius, 1699-1748) верил в возможность происхождения финского языка от древнееврейского, видя в последнем первооснову всех языков. По его мнению, финский язык в свою очередь выступал в роли праязыка для готского, саамского, эстонского и славянских языков. Ученые теолог Э. Каянус (Cajanus, 1675–1737) и профессор «священных языков» Д. Юс-лениус (Juslenius, 1676-1752) рассматривали финский язык как «первородный», появившийся в результате божественного акта после вавилонского столпотворения наравне с древнееврейским и древне
греческим. Юслениус проводил лексические параллели между финским, древнееврейским и древнегреческим языками. Финский пастор К. Ганандер (Ganander, 1741-1790) планировал составить четырехъязычный древнееврейско-финско-саамско-шведский словарь лексических соответствий.
Ученый второй половины XVIII в. Х. Портан (Porthan, 1739–1804) отверг теорию древнееврейского и скифского происхождения финнов и родственных им народов. Он утверждал, что прародиной финно-угорских народов является побережье Каспийского моря, откуда они постепенно расселялись на юг. Портан представил список финно-угорских народов. Родственными финнам народами он называл черемисов (марийцев), мордву, остяков, пермян, зырян, чувашей и ман-си6 и предлагал создать сравнительный словарь языков финно-угорских народов [1, 91–92 ].
В целом лексикографические занятия финских исследователей служили базой для сравнительного подхода к языкам.
На активизацию изучения финского языка и проведения сравнительноисторических исследований оказал огромное влияние известный датский лингвист Р. Раск7 (Rask, 1787-1832), к о торый посетил Турку в 1818 г. Сформулированный им важнейший для компаративистики принцип регулярности соответствий относительно «буквенных» переходов из одного языка в другой был использован основоположником сравнительной ура-листики профессором М. А. Кастреном (Castren, 1813–1853) при рассмотрении финно-угорских и самодийских языков. А. И. Шёгрен (Sjo g ren, 1794-1855), о с нователь российского финно-угроведения, приступил к изучению близкородственных финскому языков8.
В финском языкознании возник интерес к этимологии слов и обозначаемым ими культурным явлениям. Следуя идеям немецкого теолога, историка культуры и создателя исторического понимания искусства И. Гердера (Herder, 1744–1803), говорившего о языке как о выражении духовной жизни народа, финский ученый Портан считал, что язык отражает историю развития народа. Для финского языкознания он открыл тему «жизни слов», дав на основе этимологического анализа слов полную картину культуры и быта доисторической эпохи финского народа и попутно определив места его обитания. До Портана для определения прародины финского народа практически не использовались данные языка, связанные с географией растений, животных и орудий труда. Заслуга ученого заключается в том, что задолго до зарождения в середине XIX в. лингвистической палеонтоло-гии9 он заложил основы этой отрасли в финском языкознании [4, 14].
Призыв Гердера собирать народные песни, сказания, сказки как памятники прошлого перекликался с живейшим интересом финского профессора риторики, равно и других ученых из Финляндии, к фольклорным разысканиям, осознанием огромной эстетической ценности народной поэзии и ее значения для развития литературы. В Финляндии появились основательные исследования фольклора финнов и карел. Ганандер собирал финские и карельские народные сказания, песни10. В 1783 г. он издал сборник загадок финского народа, в 1789 г. – первое в финляндской науке исследование финской мифологии.
К началу XIX в. в Финляндии накопился некоторый опыт лексикографической работы11, относительно которой будут справедливы следующие наблюдения.
Во-первых, лексический материал подавался списком, который испытывал на себе воздействие иноязычных культур. Список включал слова, совершенно чуждые финской повседневно-бытовой жизни. Иногда составитель приводил описательный комментарий, объяснявший лексическое значение иностранного слова, например в латино-шведско-финском словаре “Va-rium Rerum Vocabula Latina, cum Svetica et Finnonica Interpretatione” (1644) значение латинского слова sorex ‘землеройка-бурозубка’ раскрывалось как hiiri, jolla on kärsä ‘мышь с хоботком’ [5, 35 ]. Введение
Финно – угорский мир. 2016. № 3 в словарь непонятных северной культуре слов обусловливалось механистичностью самого принципа составления лексиконов XVIII в., так как их основой служили латиноязычные фолианты.
Во-вторых, в словарях отсутствовал лингвистический комментарий. Объем словарей не превышал двух тысяч лексических единиц.
В-третьих, практическим назначением глоссариев было предоставление слов из латиноязычных текстов на знакомом читательской аудитории финском языке. Это давало возможность преодолеть трудности при чтении литературы, объем и содержание которой подвергались существенным изменениям. Со временем письменные тексты стали носить разноплановый характер: на фоне традиционной разнообразной религиозной литературы появились литературные памятники, знакомившие с иными национальными культурами. Перед составителями словарей встала задача изобретения финских слов, объясняющих жителям Севера неизвестные реалии.
В-четвертых, в конце XVIII в. состояние общефинского письменного языка характеризовалось невысоким уровнем развития, односторонним функционированием лексики, преимущественно в бытовой сфере. К началу XIX в. в науке, образовании и богослужении Финляндии использовались только латинский и шведский языки.
Наконец, с развитием лексикографической практики формировалась культура составления словарей, увеличивался их объем и нарастала содержательность. Со временем словарная литература стала больше соответствовать требованиям, предъявляемым наукой и культурой, так что в XIX в. лексикографические труды сформировали особый раздел финской книжности и заняли видное место среди явлений культурной жизни страны.
Постепенно объектом научных исследований становится собственный письменно-литературный язык, о чем говорят созданные к концу XVIII в. грамматики финского языка.
Первые грамматики финского языка, подобно первым грамматикам многих национальных языков, были большей частью подражательными относительно авторитетных латинских источников: грамматика латинского языка использовалась как эталон («матрица»). Однако, если сравнивать ранние грамматики финского языка с вариантами, появившимися в XVIII в., то надо отметить, что последние имели характер, более эмпирический по методу и нормализаторский по целям12, например «Грамматика финского языка» (“Grammatica Fennica”, 1733) священника Б. Ваэля (Vhaёl, 1667-1723) описывала четыре части речи финского языка, четырнадцать падежей и притяжательные суффиксы имен существительных.
С конца XVIII в. сфера интересов ученых-лингвистов расширилась от исследования грамматических форм до классификации диалектов финского языка.
Впервые Ваэль предложил систему членения финского языка на четыре основные группы диалектов, среди которых выделил турускую (Dialectus Aboica), северную (Dialectus Botnica), восточную (Dialectus Sawonica) и карельскую (Dialectus Carelica).
Другой финский исследователь, Э. Ленк-вист (E. Lengqvist, 1722-1 7 66), уделяя особое внимание диалектам Южной Финляндии, осуществил попытку установления границ между диалектами, указав отличительные черты каждой группы:
-
1) южнофинский (туруский) диалект, которому свойственны быстрый темп речи, краткие формы слов и усечение аффиксов в середине и конце слова;
-
2) ботнический диалект, который включает в себя наречия провинций Хяме и Сатакунты, характеризуется медленным темпом речи, полными формами слов, дополнительным придыхательным h между долгими гласными ( saappaan ‘в сапог’– saap h aan , kalaan ‘в рыбу’ – kala h an , lue-taan ‘читают’ - lueta h an ) и дополнительным гласным звуком «шва» для облегчения произношения сочетаний согласных ( jalka ‘нога’ - j'al a ka , kylma ‘холод-
- ный’ – kylymä/kylömä, silmä ‘глаз’ – silimä, silemä);
-
3) савоский диалект, в котором звук d опускается или заменяется полугласным согласным ( vedessä ‘в воде’ – v ee ssä , tie-dän ‘знаю’ – ti j än , aidat ‘заборы’ – ai j at ), происходят регулярные замены долгих гласных а и ä на дифтонги ( maa ‘земля’ – m o a , pää ‘голова’ – p e ä ). К данной группе Ленквист причислял карельский и ингерманландский диалекты.
Позднее Портан продолжил изучение диалектов финского языка и разделил их на две основные группы: «общее наречие» (dialectus communior) и саво-ское наречие (dialectus savonica). Он описал характерные черты савоского диалекта: чередование ступеней согласных ( kota ‘дом’ - koan , suku ‘род’ - su’ un ), формы личных местоимений ( myö , työ , hyö вместо стандартных me ‘мы’, te ‘вы’, he ‘они’). Лингвист указал сферу распространения территориальных языковых форм, в частности «общее наречие» функционировало в большей части страны. На нем оформлялись литературные и церковные тексты. Это также был церковный язык. Савоское наречие было распространено в губернии Саво, центральной Финляндии, районе Каяни и в Карелии. Савоский диалект - это язык устного народного творчества [5, 56 ].
В дальнейшем исследование диалектов финского языка стало центральным направлением в развитии финского языкознания и выделилось в самостоятельную область - диалектологию. XIX в. в финской культурной жизни отмечен таким уникальным явлением, как «борьба диалектов», вызванным дискуссией о праве того или иного диалекта послужить основой литературного языка [2, 69–73 ].
Получение Финляндией автономии13 подтолкнуло ученых-лингвистов к более активному изучению финского языка. Так, священник Й. Строльман (Stråhlman, 1749–1840) издал «Грамматику финского языка для финнов и не-финнов»14 (“Fin-nische Sprachlehre fur Finnen und Nicht-Finnen”). Пособие предназначалось для русскоязычных слушателей духовной се- минарии, направлявшихся на службу в лютеранские приходы Российской империи15. Книга представляет парадигму спряжения возвратных глаголов на языковом материале восточных диалектов и завершается финско-венгерским словником.
В 1818 г. финский поэт-просветитель, драматург и общественный деятель Я. Юден (J. Juden, 1781-1855), известный в истории национальной литературы под псевдонимом Я. Ютейни (J. Juteini), издал на шведском языке «Опыт грамматического описания финского языка» (“Försök till utredante a f Finska spra k ets gramm a -tik”). В пособии описывались только те языковые аспекты, которые, по мнению составителя, требовали подробного рассмотрения. Ютейни по-новому взглянул на падежную классификацию, отказавшись от принятого в финском языкознании деления словоформ с учетом морфологического показателя и выстроив парадигму в зависимости от функционального назначения словоформы. В частности, адессивные конструкции с аффиксом - lla /- lla подразделялись на три группы: первая выражает наличие чего-либо по модели X : lla on jotakin ‘Х имеет что-то’ ( Minulla on koira ‘У меня есть собака’); вторая обозначает пространственное, чаще горизонтальное, положение X : lla on jokin ‘На поверхности Х что-то находится’ ( Pöydällä on kirja ‘На столе лежит книга’); третья указывает на способ осуществления действия tehda j'ollakin ‘делать с помощью чего-либо’ ( Kirjoitan ky-nällä ‘Пишу ручкой’).
Ютейни выступил реформатором орфографии финского языка, приблизив ее к современному оформлению16 [9, 74 ]. Он предлагал создать единые для всех диалектов финского языка орфографические правила, а именно обозначать долгие звуки двойной гласной. После знакомства в 1818 г. с датским лингвистом Р. Раском исследователь решил ввести в финский язык по аналогии с венгерской орфографией диакритический знак, акут, для обозначения долготы гласного звука на письме: á , é , í , ó , ú , который использовал в
Финно – угорский мир. 2016. № 3 своей книге для детей, опубликованной в 1819 г. Впоследствии он отказался от этой идеи17 [9, 76 ]. Ютейни считал целесообразным исключить из употребления укоренившиеся в старофинском языке заимствованные буквенные сочетания x и tz . Взрывные согласные звуки, следующие за носовыми, а также переднеязычный t после латерального согласного l , по версии языковеда, должны были сохранять историческое написание через мягкие взрывные b или d : le mb eä , ku ld a 18.
Ученый выступал за укрепление статуса финского языка, поскольку, как и все фенноманы19, был убежден в том, что престиж языка необходим для развития национального самосознания: «Язык – это железный обруч, который сплачивает весь народ»20. Поэт много сделал для популяризации финского языка прежде всего у себя на родине, в Финляндии. Так, он был первым, кто писал пьесы, новеллы и стихи только на финском языке. С современных позиций язык и стиль его произведений воспринимаются как неуклюжие, излишне дидактические, а юмор – как примитивный и грубый. Однако для манеры письма ученого характерны раскрепощенность и гибкость. Язык Ютей-ни был близок к общефинскому разговорному, так как он считал, что писать надо так, как говоришь, а не наоборот. В начале XIX в. границы между литературными жанрами были очень подвижными, что давало возможность писателю попробовать свои силы практически в каждом из них: он был автором научных и художественных текстов, смешных рассказов и страшных историй о привидениях, философских эссе и составителем пословиц, автором букваря и грамматики. Его можно считать родоначальником детской литературы на финском языке21.
Самым популярным в Финляндии того времени считалось произведение Ютейни «Песнь Финляндии» (“Laulu Suomessa”), известное в истории литературы под названием «И мы достойны уважения». Оно задумывалось как гимн, и в отличие от ставшего официальным гимном Финляндии стиха Рунеберга (Runeberg,
1804-1877) «Наш край» (“Maamme”)22 в нем поется о процветающей державе, в которой живут красивые, просвещенные и отважные люди.
Среди исследователей финского языка начала XIX в. ведущим ученым-фонетистом признан священник Г. Рен-валль (Renvall, 1781-1841), который начал языковедческую деятельность с диссертации о правилах финской фонетики и орфографии (“De orthoëpia et orthographia linguae F ennicae”, 1810-1811 ) . Он выступал за проведение реформы финского языка, предлагал отказаться от заимствованных буквенных сочетаний и провозглашал принцип фонематического письма [5, 67 ]. Ренвалль проводил сравнительные исследования, например, финской падежной парадигмы и предложной системы шведского языка (“De signis relationum nominalium”, 181 5 -1817) , подготовил к изданию «Грамматику финского языка». К сожалению, она не была опубликована. В ответ на замечание датского лингвиста Раска23, занимавшегося северными языками (к которым помимо скандинавских причислял саамский и финский), об отсутствии пригодных для проведения обширного сопоставительного исследования словарей финского языка, ученый издал словник “Suomalainen Sana-Kirja – Lexicon linguae Finnicae” (1826), ставший основой для последующих лексикографических проектов.
Особенности морфологического строя финского языка Ренвалль описал в манускрипте “Finsk Spraklara, Enligt de Rena Vest-Finska, i Boksprak vanliga Dialec-ten”24 (1840), опираясь на материал западной группы диалектов и стараясь по возможности избегать иностранных лексических заимствований. Труд не получил должной оценки современников, потому что к моменту его издания западные группы диалектов уже не были столь популярны среди лингвистов25. Им на смену пришли восточные диалекты и так называемый калевальский народный язык [5, 68 ], ставшие известными благодаря активной культурно-просветительской деятельности видного представителя фенно- манского движения языковеда Э. Леннро-та (Lonnrot, 1802-1884).
К концу XVIII – началу XIX в. языкознание достигло высокой степени зрелости, что позволило ему порвать с зависимостью от богословия26, рабского копирования идей и принципов философии и логики (например, принципа логицизма в лингвистике). Помимо филологических и богословских стали создаваться отдельные языковедческие кафедры. Финляндия также не оказалась в стороне от этого процесса. По многим аспектам лингвофилософской европейской мысли финские ученые ничуть не отставали, а следовали ей согласно духу времени. Они были прекрасно знакомы с трудами выдающихся зарубежных философов и лингвистов.
В Европе с именем немецкого философа-просветителя Гердера связано возникновение романтизма с его обостренным интересом к прошлому27. Идеи ученого соответствовали задачам современности, поставленным передовыми мыслителями Финляндии, а именно: объединить народ в нацию, развить национальное самосознание и получить государственнополитическую независимость. Борьба за расширение общественно-гражданских и культурных функций финского языка приобрела практическую политическую значимость. Литература и язык рассматривались как приоритетные направления в борьбе за национальную независимость.
По мнению национально настроенных писателей, в частности священника и поэта А. Поппиуса28 (Poppius, 1793–1866), финский народ должен был доказать, что может существовать без Швеции, ее языка и нравов29. Эти устремления и честолюбивые планы местной интеллигенции совпадали со стратегической целью, поставленной на Боргоском сейме (1809 г.) императором Александром I: дать финскому народу «бытие политическое, чтоб он считался не порабощенным России, но привязанным к ней собственными очевидными пользами» [2, 104 ].
Отвечая требованиям и вкусам времени, Поппиус писал стихи на восточном, савоском, диалекте финского языка.
В 1818 г. он издал диссертацию «Формы возвратных глаголов финского языка», в 1819 г. помог Х. Р. фон Шрётеру перевести на немецкий язык финские народные песни30. Первый поэтический сборник Поппиуса был опубликован в газете «Oskyldigt Ingenti n g», издаваемой А. Ар-видссоном. Позднее газета «Мнемозина» (“Mnemosyne”) напечатала несколько его рун31. Поэт черпал вдохновение в устной народной поэзии, следовал ее традициям, пользуясь художественными приемами народных песен: соблюдая калевальский размер, аллитерацию и повторы, например:
Neitsyt Maria emon en ke rran kä yskeli ke sä llä ni itun nu rmella iha nan ; Kävi tu ulta tu ntemassa,
Il moja ih ailemassa, pi enen po ikansa kera lla .
Viimein le hdossa le vähti, pi mennossa pi hlajaisen, tuomen ku kkivan ku vassa.
Po ika pi enoinen sylihin
Ku lta ku kkia ku letti, Si toi niistä se ppeleisen, Kru unun ru usuista rakensi,
Sillä so lmesi so masti
Äitin pää tä paa rlytointa32.
«Дева-матушка Мария как-то летним днем гуляла на красивой полянке;
Ходила, ветерком наслаждаясь, чудным воздухом восторгаясь, со своим сыночком маленьким.
Наконец, в роще отдохнула, в тени рябинушки, под сенью цветущей черемухи.
Сыночек крохотный к груди
Поднес цветочки золотые, Сплел из них веночек, А из роз корону сделал,
Ею он украсил чудно
Матери головку жемчуговую»33.
Национально настроенные люди поддержали и высоко оценили эти стихи, однако шведоязычная читательская аудитория не вдохновилась лирикой Поппиуса Тем не менее свою задачу поэт выполнил его творчество продемонстрировало народу Финляндии те культурные и мораль- ные ценности, которыми он неведомо для самого себя обладал. Сочиняя лирические тексты на финском языке, Поппиус наглядно показал такие его возможности, как способность выражать возвышенные романтические чувства и абстрактные категории, рифмоваться (в стихах ощущается тяготение к перекрестной рифме) и создавать выразительные средства худо- жественной речи (метафоры и сравнения).
В первую декаду XIX в. финское общество охватил национальный подъем, известный в истории культуры Финляндии как период «туруского романтизма». Стали активно издаваться финноязычные газеты, среди которых наиболее популярным был «Туркуский еженедельник» (“Turun Wiikko-Sanomat”), издаваемый в 1820–1822 гг. писателем и исследователем финского языка Р. фон Беккером34 (R. von Becker, 1788-1858). Содержание его материалов расширяло взгляды финноязычного населения на мир и представления об окружающих предметах и явлениях35.
В 1824 г. Беккер опубликовал грамматику финского языка “Finsk grammatik”, написанную на восточном, савоском, диалекте, который, по мнению автора, отражал «самые характерные черты финского языка»36. Исследователь сетовал, что «…к большому сожалению, первые финские книги писались на очень плохом языке, которым владели жители прибрежной части страны». Такой язык являл собой смешение флексий из шведского и латинского, «уродуя прекрасный понятный язык», т. е. восточную группу диалектов. Буквально повторяя слова Ютей-ни, Беккер утверждал, что «не книги создают язык, а язык формирует книги, поэтому книги следует переписать» [10].
Языковед был уверен в необходимости и значимости единого литературного языка. Однако при обилии диалектных вариантов остро встал вопрос, какой из них выбрать за основу литературного языка. Ситуация складывалась следующим образом: долгое время традиция финского книгопечатания опиралась на западную группу диалектов, однако большой объем литературы на восточных диалектах инициировал в первой половине XIX в. горячую дискуссию о пр и орите т ности той или иной группы диалектов, известную в истории языка и культуры как «борьба диалектов»37.
В пользу западной группы диалектов выступали традиционное использование ее при написании церковной и юридиче- ской литературы, а также авторитет ученого Ренвалля, издавшего словарь финского языка (1826) на ее основе и таким образом утвердившего нормы орфографии. Сторонники восточной группы диалектов (Р. фон Беккер, С. Роос, К. Кек-кман, Э. Леннрот, К. Готлунд) активно отстаивали ее преимущество в формировании единого литературного языка, так как, по их мнению, она отличалась большей благозвучностью, более широким арсеналом языковых средств, а также бытованием на ней фольклорных материалов. Раздавались компромиссные предложения: либо объединить «лучшие черты каждой из групп» в одном литературном языке (Беккер, 1824), либо «оставить все как есть, пусть каждый говорит и пишет на том диалекте, который знает, а единый язык со временем сформируется» (Готлунд, 1831)38.
Спор развернулся вокруг целесообразности использования буквы d , поскольку звук [d] и соответственно буква d отсутствовали в восточных диалектах39. Одни лингвисты выступали за отказ от нее (Беккер), другие – за ее сохранение (например, Готлунд, Кеккман, Леннрот, Ренвалль). Полемика длилась не один десяток лет, то затухая, то вспыхивая вновь. Любое заметное лингвистическое событие, как то публикация карело-финского народного эпоса «Калевала», написанного на восточных диалектах (1835), или грамматики финского языка Ренвалля (1840), составленной на западных диалектах, вызывало дискуссию о приоритетности той или иной диалектной группы. В 1840-х гг. было решено прекратить поиск лучшего диалектного варианта и взять за основу единого литературного языка западные диалекты при обогащении лексики за счет восточных диалектных групп.
Знаковым событием для научнокультурного сообщества стало открытие в 1827 г. Императорского Александровского университета (Хельсинкский университет)40. В 1829 г. на должность лектора финского языка был назначен сотрудник библиотеки, ревностный собиратель фольклора К. Кеккман (Keckman,
1793-183 8)41 [8, 48 ]. Он входил в число основателей «Общества финской литературы» (1831) и был одним из первых в плеяде выдающихся переводчиков европейской художественной и философской литературы42.
В просветительских целях Кеккман перевел на финский язык книгу немецко-швейцарского писателя Г. Чокке (Zsch o k-ke, 1771–1848) «Делатели золота» (“Das Goldmacherdorf”’, 1817)43. Перевод был опубликован под названием «Култала. Забавная и поучительная история всему народу для чтения» (“Kultala. Hyödyllinen ja huvittava historia, y h teisell e k a nsalle luet-tavaksi annettu”)44. На примере этого произведения рассмотрим особенности финского языка начала XIX в. Однако прежде опишем сложившуюся в стране языковую ситуацию.
В начале XIX в. с у ществовали с л едующие формы финского языка: разговорный народный язык (puhuttu kansankieli) в различных диалектных вариантах, церковный язык (kirkkokieli), юридический язык (lakikieli), мирской вариант литературного языка (profaani kirjakieli ) , к а левальский язык (kalevakieli)45 и более поздняя форма народной эпической песни (руна) (uudempi kansanruno).
Новоявленному лектору финского языка, безусловно, все эти формы были известны. В провинции, где родился Кеккман, население говорило на севернозападном диалекте. В целом по стране разговорный язык представлял собой местные варианты финского, который в приходах использовали священники, в городах - купцы и представители буржуазии, хотя рассуждать о едином финском языковом сообществе было бы преждевременно. Обучение, в том числе в Оулу, родном городе лингвиста, велось на шведском языке. Наряду с латынью существовал церковный финский язык, который складывался на основе юго-западного диалекта. Письменный финский язык включал в себя черты разговорного языка прежде всего юго-западной части Финляндии, к которому постепенно привлекались языковые ресурсы восточных диа- лектов. Язык юриспруденции находился в процессе формирования. Калевальский язык бытовал в устно-поэтической форме, локализованной на северо-востоке Финляндии. Это был язык свадебных и колыбельных песен, плачей, сказаний и причитаний [3, 393]. Язык светской литературы продолжал развиваться благодаря различным новостным сообщениям из мира географических открытий, исторических фактов, открытий в области естествознания, художественных творений.
Обратимся к анализу языка произведения Кеккмана «Култала».
В плане орфографии автор сочинения придерживался принципа обозначения на письме звука [ d] буквой d 46 .
В языке рассказа отмечаются непоследовательность и нерегулярность в оформлении некоторых грамматических категорий, что было свойственно финскому языку первой половины XIX в.
Написание имен, обозначавших производителя действия, с аффиксом - ja варьировалось в зависимости от того, на какую гласную оканчивалась основа. Так, если основа оканчивалась на передне- и среднеязычный гласный, морфема - а опускалась: kullantek i ain kyla ‘деревня золото-старателей’ ( kullantek i jöiden kylä ), luk ia ‘читатель’ ( luk i ja ); после заднеязычных гласных сохранялась: kats oj a ‘зритель’.
Слова, оканчивающиеся в современном финском языке на - e a/- e a , оформлялись через - i : lev i ä ‘широкий’ ( lev e ä ); oi-k i a ‘правый, правильный’ ( oik e a ), vaik i a ‘трудный’ ( vaik e a ).
Показатель множественного числа t в номинативе присоединялся к исходной словоформе на -e без удвоения конечного гласного основы: puh e ‘речь’ – puh e t ‘речи’ (в современном финском puh ee t ); tarv e ‘нужда, потребность’ – tarv e t ( tar-v ee t ); vaat e ‘одежда’ – vaat e t ( vaatt ee t ).
Окончание адессива - lle порой имело форму на n : arennille n ‘для ренты’.
Дифтонг, оканчивающийся на - i , оформлялся нерегулярно: hevo i nen ‘конь’ ( hev o nen ); melk ee n ‘почти’ ( melk ei n ); tie-tämätö i n ‘неизвестный’ ( tietämätön ); on-neto i n ‘несчастливый’.
В конце слова при присоединении усилительных частиц -kin , -kaan/-kään , -pa/-pä фиксировалось удвоение согласной, например: ei ole kk aan ‘полностью отсутствует’; ota pp as ‘возьми-ка’ .
В морфологии финского языка начала XIX в. непо с ледовательностей было также много; самыми заметными из них выступали формы окончаний глаголов 1-го и 2-го лица множественного числа, которые иногда соответствовали современным формам, т. е. оканчивались на -e , иногда - формам, свойственным диалектам округа Оулу и старофинскому языку, и заканчивались на - a : Jos nyt vedellä val-kiata sammuta tte (совпадает с современной формой окончания глагола), miksikä epäile tt ä (современная форма epäile tt e ) ‘Если сейчас вы водой потушите огонь, то почему же вы боитесь’ [8, 20 ].
Форма генитива множественного числа была более регламентирована, чем в современном языке: для одноосновных слов окончанием выступал аффикс - in ( köyhä in ‘бедных’, leske in ‘вдов’, orvo in ‘сирот’, muutama in ‘некоторых’); для двухосновных слов - - ten : rikas ten ‘богатых’, ruoka-tarvet ten ‘продовольственных потребностей’.
Кеккман активно использовал рефлексивные формы, столь распространенные в восточной группе диалектов: olisivat peräyneet ‘отказались бы’, antausivat ‘отдались’, hukkaupi ‘затерялся’, kokounut ‘собрался’, pistayta ‘заглянуть’, velkauneet ‘задолжал’.
В рассказе четко зафиксированы языковые тенденции, характерные для начала столетия, в частности широкое употребление форм 1-го инфинитива пассивного залога с аффиксом -tta/-ttä: millä neuvoilla vaivaistenhoito parahiten taitaisi autettaa ‘какими способами лучше всего помочь страждущим’; yhteiset velat taittaisiin puilla maksettaa ‘общие долги, по-видимому, следовало бы выплачивать дровами’. Кстати, Кеккман, исследовав залоговые связи глагольных форм, пришел к выводу, что финский пассив не имеет ничего общего с категорией пассива в индоевропейских язы- ках и является, скорее всего, имперсо-налом. Ученый сравнил формы возвратных глаголов с возвратными формами в северно-западном диалекте [8, 5].
Морфолого-орфографическая особенность финского языка - служебная частица - han /- han ‘ведь, же, -ка’ - оформлялась во времена Кеккмана как самостоятельное слово: Ihmisiä hän mekin olemma ‘Людьми же мы являемся’; Et hän sinä tiedä mitään ‘Ты ведь не знаешь ничего’ . Изредка встречалось слитное написание: Kylla han ne kaikki tunnettiin ‘Они непременно знали все’.
Синтаксические конструкции имели черты заимствований из шведского и немецкого языков, в частности превалировали, по сравнению с современным синтаксисом предложений, формы 1-го инфинитива: Ja siihen apua löytää oli vaikia asia ‘И для этого случая найти помощь было сложно’; Niin vähästä karjasta saa-da niin paljon voita ja juustoa, sepä nyt oli eriskummainen konsti ‘Получить от такого маленького стада столько много масла и сыра, это ли не было чудом’; Puita polttaa on rahaa polttaa ‘Деревья сжигать все равно, что деньги жечь’.
Кеккман широко использовал конструкции, заменяющие придаточные предложения (так называемые предложения-эквиваленты): Pappi arveli olevansa ‘Священник думал, что он существует’; Tiettiin rahat olevan hyvässä tallessa ja vuokrat oikialla ajalla maksetta-van ‘Люди знали, что деньги хранятся в надежном месте и арендная плата производится в нужное время’. Были распространены инфинитивные конструкции, например: Tultuansa ulos tullista, puhke-si hänen sydämmensä ja hän itki katkerast ‘После того как он вышел из здания таможни, его сердце дрогнуло и он расплакался’; Joivat juotavansa ‘Они выпили свое питье’.
Употребление союзов в современном и старофинском языках различно. Составной союз taikka - eli (kka) соответствует по значению современному joko – tai ‘либо – либо’: Kaikkia näitä oli hän taikka itse nähnyt eli kirjoista ‘Все это он либо видел сам, либо читал в книгах’. Кроме того, союз eli употреблялся в разделительном значении по аналогии с современными союзами tai и vai ‘либо’, ‘или’47: vieraita kaupungista eli muista ky-lista ‘гости из города либо из других деревень’ [8, 20 ].
Подчинительный союз koska ‘потому что’ употреблялся в темпоральном значении ‘когда’. В каузативной функции выступал подчинительный союз sillä että ‘потому что, поскольку, так как’: Sillä että useimmat kylässämme ovat velkaa rikkaille, tekevat rikkaat mita tahtovat ‘Богачи делают все, что хотят, так как большинство в нашей деревне им должны’.
Придаточные предложения с относительными союзами имели свои особенности.
Союз j'oka ‘который’ присоединял придаточные определительные, указывая на одушевленные имена существительные: Joilla ei ollut omia huoneita, ne otet-tiin vaivaisten huoneeseen ‘Тех, у кого не было собственных комнат, разместили в богадельне’. Здесь союз joka принимает форму joilla мн. ч. (аффикс -i ) внешнеместного падежа адессива (аффикс -lla ) со значением ‘у которых’. В других случаях использовался союз с основой на ku -: Eri huonet, kussa ruat keitettiin ‘Разные помещения, в которых готовилась еда’; Hänellä oli kirja, kuhun kaikki olivat kirjoitetut ‘У него была книга, в которую он всех записывал’ . Если коррелят отсутствовал, употреблялся союз с основой на mi -: Katossa säilytettiin, mitä oli tarpeiksi ostettu ‘Люди хранили на чердаке, что покупалось для различных нужд’.
Структура сложного предложения служила риторическим целям. Так, предшествование придаточного относительного главному предложению позволяло придать синтаксической конструкции назидательный характер. По стилю такие предложения напоминали пословицы: Jolla on karjaa, lähettäköön sen laitumel-le ‘У кого есть скот, пусть тот отправит его на пастбище’; Jossa olivat enimmät krouvit, siinä mä havaitsen enintä köyhyyt-ta ‘Где больше всего кабаков, там я заме- тил больше всего бедности’; Jotka ovat vaivaisten huoneessa, niiden pitää tehdä tyota kahdeksan tiimaa paivassa ‘Кто живет в богадельне, те должны работать по восемь часов в день’ [8, 21].
Говоря о лексическом составе финского языка начала XIX в., стоит отметить, что наряду с исконной лексикой выделялся большой слой заимствований, главным образом из шведского, немецкого и латинского языков, который охватывал в первую очередь терминологическую сферу финансово-экономической и юридической областей. В частности, понятие «рента» могло передаваться сразу несколькими иностранными словами arrenti , intressi , rantty . При этом лингвисты старались подобрать эквиваленты на родном языке, как то vuokra , vuokraus ; korko , korkoraha . Некоторые термины создавались за счет исконных языковых средств, например слово «доход» обозначалось лексемами tuotto и annot , образованными с помощью аффикса - o от глаголов tuottaa ‘приносить доход’ и antaa ‘давать (доход)’.
В словообразовании порой использовались способы, не свойственные морфологической структуре финского языка, в частности префиксальный по модели словопроизводства в шведском языке: pois kadonnut ‘исчезнувший’, в котором первым компонентом является наречие pois ‘прочь, вон’; alas painetut ‘отпечатанный’, образованное путем присоединения наречия alas ‘вниз’ к причастию ‘напечатанный’. К префиксальному способу словообразования порой прибегают в современном финском языке, например: ali arvioida ‘недооценивать’, alle kirjoit-taa ‘подписывать’, alle viivata ‘подчеркивать’, yli kyllästää ‘перенасыщать’.
В начале XIX в. в Финляндии благодаря самоотверженной работе Кеккмана, который составил полный список произведений, опубликованных на финском языке, получила развитие библиотечноинформационная деятельность. Список “Förteckning å härtills vetterligen tryckta Finska Skrifter”, включавший 700 наименований, положил начало систематизированным библиотечным изданиям [8, 5 ].
Большое значение для становления финского языка и культуры имели научные общества, которые организовывались в первые десятилетия финляндской автономии, например в 1821 г. при Хельсинкском университете было воссоздано естественно-научное общество “Societas pro Fauna et Flora Fennica”, кот о рое ставило задачу описания флоры и фауны на финском языке. Однако по мере осуществления проекта выяснилось, что работа невыполнима из-за недостаточной разработанности терминологии48.
В 1830 г. в Хельсинки возник литературно-философский кружок «Субботняя беседа» (“Lauantaiseura”)49, предметом дискуссий в котором были произведения и культурные события как в Финляндии, так и за ее пределами. На заседаниях кружка обсуждались философия и эстетика Г. В. Ф. Гегеля (1770-1831). Трудами великого немецкого философа серьезно заинтересовался один из известнейших фенноманов XIX в. писатель и журналист Й. Снельман (Snellman, 1806– 1881), сыгравший ключевую роль в становлении финского языка в качестве государственного языка Финляндии.
Важным событием для совершенствования финского языка и пробуждения национального самосознания стало основание в 1831 г. «Общества финской литера-туры»50. Его программа включала составление словарей, сбор, изучение и поддержку устного народного творчества. Кроме того, ставилась задача популяризации художественной литературы на финском языке51, но, поскольку к моменту создания организации таковая была представлена в небольшом объеме, общество приступило к переводам зарубежных произведений на финский язык.
В 1838 г. было образовано научное общество “Societas Scientiarum Fennica”, в структуре которого имелся историкофилологический отдел. Его публикации касались языковых проблем, в частности описывали варианты шведского языка в Финляндии. На страницах издания “Acta” Леннрот охарактеризовал тундровый ненецкий, оформив, однако, свои научные наблюдения на немецком языке. Алквист опубликовал свои научные заметки, касавшиеся проблем финно-угристики. Он сравнил венгерский и финский языки, рассмотрел особенности водского и вепсского языков, проанализировал лексику финского языка, напечатал некоторые разделы его исторической грамматики52.
Важную роль с точки зрения развития литературного финского языка и с учетом культурно-просветительских задач сыграло издание Леннротом ежемесячного журнала «Мехиляйнен» (1836–1837, 1839-1840). Содержание альманаха составили фольклорные материалы, лингвистические заметки, в которых разрабатывалась научная терминология. Исследователь обратил внимание на наличие пролативных и возвратных форм в калевальских рунах, изучал случаи ассимиляции между звуками, образования падежной парадигмы, глагольного спряжения.
В целом общественно-политическая ситуация в Европе начала XIX в. складывалась благоприятно для развития Финляндии. На это время приходится первая волна национального пробуждения, выразившегося в проявлении интереса к историческому прошлому страны и устному народно-поэтическому творчеству. В этот период зародилось так называемое фенноманское движение, представители которого боролись за статус финского языка в общественно-политической жизни страны.
Многие исследователи (Портан, Рен-валль, Поппиус, Кеккман, Леннрот и др.) были знакомы с ведущими европейскими мыслителями того времени. Они активно обменивались научными идеями. Некоторые финские ученые открыли новые направления в национальном языкознании. Так, Ваэль и Портан заложили основы диалектологии финского языка, Пор-тан дал начало лингвистической палеонтологии, Кеккман – библиотечному делу в Финляндии. Ренвалль разрабатывал орфографические нормы финского языка. Леннрот показал всему миру богатство культуры и оригинальность языка север- ного народа, составив легендарную эпическую поэму «Калевала».
Интерес к финскому языку все больше приобретал научный характер и основывался на достоверных языковых фактах, а не на абстрактных идеях и политических амбициях. Грамматики и словари финского языка создали прочный фундамент национального языкознания. Необходимость выработать единый литературный язык породила широкую дискуссию, известную как «борьба диалектов», которая позволила ученым обратить серьезное внимание на местные языковые варианты. Перевод европейской художе- ственной литературы открыл новые перспективы для развития языка, так как была осознана острая потребность в разработке специальной научной терминологии: ограниченная сфера употребления языка не позволяла в то время вести на нем ученые дискуссии. Финский язык первой трети XIX в. характеризовался определенной непоследовательностью и нерегулярностью в оформлении некоторых грамматических явлений. Тем не менее рассмотренный период истории финского языка можно назвать продуктивным этапом восхождения к вершинам научной мысли.
Список литературы Развитие лингвофилософской и грамматической мысли в Финляндии 1810-30-х годов
- Карху, Э. Г. История литературы Финляндии. От истоков до конца XIX века/Э. Г. Карху. -Ленинград: Наука. Ленинградское отделение, 1979. -510 с.
- Основы финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские, саамские и мордовские языки. -М.: Наука, 1975. -347 с.
- Пеллинен, Н. А. Северно-карельские колыбельные песни калевальского размера /Н. А. Пеллинен. -Режим доступа: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2010/kalevala_.
- Ikola, O. Porthan kielentutkijana//Academia Scientiarum Fennica. -Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia; Year Book, 1983. -P. 7-22.
- Häkkinen, K. Suomen kielen historia 2. Suomen kielen tutkimuksen historia/K. Häkkinen. -Turku, 2008. -243 s. -(Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, 78).
- Haugen, E. Lexicography and language planning. Scientific and Humanistic dimensions of languages/edited by K. Jankovsky. -Washington: John Benjamins Publishing Company, 1985. -P. 571-581.
- Huhtala, L. Jaakko Juteini -Viipurin värikäs kirjailija /L. Huhtala. -Режим доступа: http://www.vsks.net/2011/07/26/jaakko-juteini-viipurin-varikas-kirjailija.
- Pääkkönen, I. Ahkeroimia. Piirteitä Carl Niclas Keckmanin elämäntyöstä/I. Pääkkönen. -2005. -№ 26. -94 s. -(Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja).
- Rapola, M. Suomen kirjakielen historia. I. Vanhan kirjasuomen kirjoitus-ja äänneasun kehitys/M. Rapola. -Helsinki, 1965. -342 s. -(SKST, 197 osa).
- Rintala P. Poikkeaako kirjakieli puhutusta arkikielestä liiaksi? //Kielikello. -1985. -№ 1. -Режим доступа: http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=646.