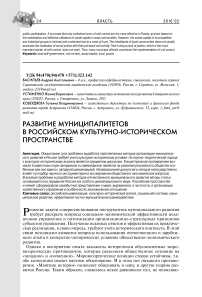Развитие муниципалитетов в российском культурно-историческом пространстве
Автор: Васильев Ндрей Анатольевич, Устименко Жанна Борисовна, Ковердяева Татьяна Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
Осмысление сути проблем и выработка перспективных методов организации муниципального развития в России требует учета культурно-исторических условий. Но научно-теоретический подход к культурно-историческому анализу является предметом дискуссии. Концептуальное противоречие возникло в известном споре западников и славянофилов: является ли развитие российского общества особенным или оно едино с западной цивилизацией. Незавершенная дискуссия и сегодня непосредственно влияет на подбор научного инструментария в исследовании общественно-экономических вопросов. В анализе проблемы и разработке методов отечественного муниципального развития авторы статьи основываются на парадигме России, как особого цивилизационного мира. Российские пространство и климат сформировали самобытное представление о мире, выраженное, в частности, в организации хозяйственного управления и особенностях экономических отношений.
Российская цивилизация, культурно-исторический анализ, социальная система, муниципальное развитие, эффективное частно-муниципальное взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/170168296
IDR: 170168296 | УДК: 94(470);94(470
Текст научной статьи Развитие муниципалитетов в российском культурно-историческом пространстве
Р ешение задачи совершенствования инструментов муниципального развития требует раскрыть вопросы социально-экономической эффективности механизмов управления и оптимизации организационно-структурных принципов субъектов управления. Получение искомых ответов и эффективная их практическая реализация, в свою очередь, требуют учета исторического контекста. В этой связи исходными являются вопросы использования отечественного и зарубежного опыта в конкретно-исторических условиях общественно-экономического развития.
Однако в восприятии опыта заложены исторически обусловленные мировоззренческие противоречия, которые раскололи общественное сознание на «западное» и «почвенное». Мировоззренческие позиции сторон устойчивы, т.к. обе концепции имеют научное обоснование. И в этом нет никакого противоречия. «Маятник истории» позволяет обосновать и одну, и другую теорию развития России. Таким образом, сложилось некое равновесие сил, не позволяю- щее однозначно определиться на философско-социологическом уровне в мнении о путях и методах строительства общества, что, в свою очередь, препятствует поиску адекватных научно-практических решений на уровне конкретных проблем муниципального развития.
Взаимосвязь этих вопросов – самая прямая и непосредственная, т.к. различия западной и российской цивилизации в сферах государственного управления и экономики проявляются в разных моделях административно-территориального (муниципального) устройства; в принципах и методах функционирования и взаимодействия с государством, субъектами хозяйственной деятельности и аналогичными структурами. Поэтому для разработки перспективных методов муниципального развития необходимо понимание исторически сложившегося противопоставления традиционного и западного укладов в российском обществе. Истоки этого противоречия – в формировании российской цивилизации в двух географических, культурно-исторических и хозяйственных пространствах Запада и Востока.
В Старом Свете – Европе, колыбели западной цивилизации, Россия занимает восточную периферию, а на Евразийском континенте – центральное место. Географическая характеристика отражает как сложность (двойственность), а значит и неопределенность цивилизационных границ, так и сложность восприятия России внешним миром и самой себя в нем.
С точки зрения европоцентричной системы координат Россия представляется аутсайдером на «универсальном» пути общественного развития, нуждающейся в восприятии передового опыта успешного общественно-экономического развития. С точки зрения евразийства Россия представляет уникальную многовековую культуру, распространенную на огромных пространствах. Она обладает самой большой государственной территорией, природными ресурсами и соответствующим экономическим потенциалом; играет важную роль на международной арене, что служит подтверждением успешного развития.
По своей природе западная и российская цивилизация – антагонисты. Но географическое расположение в одной части света обусловило их тесное взаимодействие, разделив весь европейский континент на две мир-системы 1 – Запад и Восток. Успехи развития западной цивилизации (Европа и США благодаря капиталистической социальной системе с XIX в. доминируют в мире) объективно потребовали от России ориентироваться на ее достижения. Не случайно различные фазы преобразований с эпохи Петра I характеризуются с западоцентричных позиций: реформы – это мероприятия, направленные на интеграцию в капиталистическую систему, контрреформы – комплекс мер, ориентированных на традиционный уклад. Этот подход зафиксирован в досоветском и советском историалах (ценностно-ориентированная сконструированная история). В постсоветский историал внесено изменение – системные преобразования названы модернизацией 2 , и сам термин опосредованно закрепляет линейность исторического развития.
Такое понимание и соответствующий научный инструментарий сформировались в результате создания завершенного теоретического обоснования капиталистической социальной системы и ее рыночных механизмов. А сущность социалистической модели как капиталистической антисистемы более определенно сформулирована на уровне надстройки, но не на уровне базиса.
Важнейшим фактором высокой эффективности западной социальной системы 1 является модель муниципального самоуправления с приоритетом горизонтальных каналов взаимодействия, обеспечивающая высокую динамику экономического развития и лидерство в организации производства и финансов, государственных и муниципальных институтов управления.
Завершенность социальной конструкции, избыток возможностей и высокие потребности заставляют западную цивилизацию активно действовать в глобальных масштабах, интегрируя или абсорбируя новые пространства в свою капиталистическую систему. Данный алгоритм определен капиталистической рациональной сущностью, а потому закономерен. «Капитализм – это сложная социальная система, институционально ограничивающая капитал в его долгосрочных и целостных интересах и обеспечивающая ему экспансию. Экспансия для капитализма необходима… Он сконструирован как экстенсивная система, и всегда, как только мировая норма прибыли падала, капитализм выхватывал из некапиталистической зоны кусок и превращал его в свою периферию. То есть, зону дешевой рабочей силы, зону рынков сбыта и зону, из которой черпал ресурсы» [Фурсов 2014: 234-235]. Россия является одной из приоритетных целей для Запада: в умеренном варианте – это нейтрализация международных политико-экономических устремлений с последующим подчинением своим интересам; в радикальном варианте – превращение в объект с неограниченными возможностями для приложения своих капиталов.
Отсутствие иных примеров адекватного развития заставляет Россию брать на вооружение именно западный опыт для обеспечения конкурентоспособности и решения жизненно важных вопросов. Другим аргументом является глобализация на основе распространения капиталистической системы в пределах всего мирового пространства. Соответственно, субъектность в мировой экономике требует руководствоваться законами рынка. Невозможно исключить рыночные принципы в управлении хозяйством, являясь интегрированной составляющей мирохозяйственной системы. Поэтому российскому обществу необходима модернизация традиционной мир-экономики.
Вместе с тем модернизацию сопровождает нарушение целостности культурноисторической конструкции, вызывая кризис социальной системы. На протяжении веков российское общество жило понятиями коллективизма, взаимопомощи, нестяжательства, а не категориями экономического расчета и меркантилизма. Наши пространства, наш климат сформировали иные правила общежития, иное миропредставление.
В результате модернизаций 1860–1870-х гг., индустриализации и аграрной реформы С.Ю. Витте – П.А. Столыпина была изменена мир-система, что вызвало конфликт хозяйственного и культурного целеполагания. Иррациональный подход к экономической деятельности на основе православного мировоззрения замещается рациональным, утилитарным.
В советскую эпоху, следуя логике западоцентричной научной концепции смены формаций, создается посткапиталистическая социалистическая система. Однако советское государство в короткое время преобразуется в антикапитали-стическую систему. Во время нэпа 1920-х гг. была предпринята попытка создания комбинированной модели, включающей компоненты патриархальной, капиталистической и антикапиталистической (социалистической) мир-экономики. Эта модель более известна как «многоукладная экономика» и «госкапитализм». Позже идея воплощается в политике индустриализации, в коллективизации, в ограничении и административном регулировании движения трудовых ресур- сов (смена места жительства и работы), социальных обязательствах государства, жестком контроле над дифференциацией доходов и не искорененным функционирующим рынком. Все это было контаминацией общинности, социализации, патернализма, планово-распределительной централизации, максимального извлечения прибыли и рыночного товарооборота. Затем идея воплощалась в жизнь различными способами – до «эпохи застоя» включительно. Политика перестройки отвергла опыт традиционной мир-экономики и советской системы антикапитализма, руководствуясь примером пореформенного (вторая половина XIX в. – начало XX в.) капиталистического развития, абсолютизировав его положительное значение.
Без должного критического анализа и без сопротивления навязанным извне ценностям общество быстро утрачивает культурно-исторические скрепы, обеспечивающие устойчивость цивилизации, имеющей истинные цели, подтвержденные многовековой историей. В результате страна стала объектом социальных и экономических экспериментов, которые вели страну по пути сырьевого придатка капитализма.
Запад на этом фоне выглядит устойчивым и последовательным и использует в своем развитии в т.ч. достижения русской цивилизации. «Европейская цивилизация никогда не достигла бы современных высот без вклада в нее русской культуры… А без романтических устремлений России и ее ошибок современная европейская цивилизация вряд ли сумела бы найти тот баланс между человеческой инициативой и социальной ответственностью, между экономической эффективностью и общественной солидарностью, которые составляют сегодня основу ее политической и социально-экономической стабильности» [Россия в… 2011: 20]. За 4 года, прошедшие после опубликования процитированных строк, лимит этой стабильности близок к исчерпанию, а сама западная социальная модель погружается в кризис с непредсказуемым исходом.
Ответ на вопрос, почему для России заимствование западного опыта не стало столь же успешным, как российского – для Запада, заключается в асимметрии и условиях взаимопроникновения двух культур. Западная цивилизация использует, в частности, российский опыт для собственного совершенствования, имея избыток ресурсов, стремясь оптимизировать систему. Условия Запада позволяют строить собственную цивилизационную модель, активно распространяя ее правила на иные страны, отводя им подчиненную роль и не испытывая цивилизационного давления в отношении себя. А мировоззренческий рационализм, обоснованный религией и идеологией, обеспечивает устойчивость и последовательность этой деятельности.
Генезис российского общества носит иной характер, наполнен иным содержанием. Предпринимавшиеся модернизации России являлись реакцией на давление Запада (необходимость обеспечить главным образом военно-политическую конкурентоспособность). Но реформы не вытекали из логики внутреннего развития. Города основывались, прежде всего, как военно-административные центры. Защита обширных границ требовала привлечения больших человеческих ресурсов. Хозяйственное освоение российских пространств осуществлялось при малочисленности и низкой плотности населения. Объективно наилучшим для экономики был кооперативный (общинный), а не конкурентный характер взаимодействия между людьми или производителями. В совокупности эти факторы не позволяли перейти на приоритет горизонтального взаимодействия, заменить экстенсивную природу преобразований интенсивными. Динамика вызревания социально-экономических условий развития была гораздо ниже динамики военно-политических задач. Поэтому государство вынужденно вмешивалось в хозяйственные и организационные процессы, запуская мобилизационный меха- низм для достижения экстраординарных целей, что и обусловило, в частности, превалирование вертикальных связей над горизонтальными в деятельности территориально-административных субъектов (муниципалитетов).
На ментальном уровне утвердилось метаэкономическое (надматериальное) мировосприятие: экстраординарные результаты с целью защиты Родины, мессианство в освоении новых территорий, стремление к справедливому, а не к высокоприбыльному ведению дел. Иррационализм – присущее российскому обществу качество, равно как и хозяйственный аскетизм, поведенческий минимализм на рынке. Да и условия хозяйствования часто заставляют руководствоваться инверсивной поговоркой: цель не оправдывает средства. А внешняя предпринимательская успешность иррелевантна внутреннему культурно-психологическому восприятию. В России на единицу материковой площади в процессе колонизации земель приходилось в 2–2,5 раза меньше морского берега, чем в Европе. Значительная часть береговой линии и материковые пространства расположены в тяжелых для хозяйствования и выживания северных климатических условиях. В этой уникальной среде сложился особенный психоисторический феномен, характеризуемый как «русская душа».
Государству в решении задач системных преобразований до сих пор не удавалось гармонично сочетать опыт двух цивилизаций. Петровские реформы придали сильный импульс муниципальному развитию. Но две городские реформы стали исключительно инициативой государства. Продемонстрированные при освоении новых территорий и строительстве городов устремления и методы являлись не чем иным, как решением военно-политических задач, когда волюнтаристский подход требовал достижения экстраординарных целей. Но привнесенные модели самоуправления и ведения хозяйственной деятельности трудно приживались на российской почве и уже при внедрении претерпели значительную деформацию.
Опыт убедительно доказывает, что причины многих неудач – в нетворческом заимствовании готовых западных форм. Необходимо было учитывать, что и английская, и голландская муниципальные модели развиваются на основе горизонтального взаимодействия. В России весь процесс – от инициативы до функционирования – реализован посредством вертикальных каналов. Поэтому петровские усилия разбудить инициативу сопровождались расширением внеэкономических методов управления. Казалось бы, абсолютное противоречие. Однако последовательность в действиях при понимании того, что решалась задача совмещения двух «перпендикулярно направленных» логик, очевидна.
Последствием петровской и екатерининской модернизации стал глубокий культурно-экономический разрыв в развитии столичных городов и регионов. Возникшая асимметрия так и не была изжита за три столетия. В настоящее время имеет место экономический провинциализм, периферийность последних относительно первых. А в регионах аналогичный разрыв существует между областным центром и районными муниципалитетами.
Отмена крепостного права и столыпинская аграрная реформа были также вызваны несовпадением внутренней логики развития с внешними требованиями. Крепостническая социально-экономическая система тогда еще не исчерпала свои ресурсы, но она не обеспечивала конкурентоспособность в мировой экономике. В результате перехода от рыночно-крепостнического к рыночнокапиталистическому хозяйству [Рязанов 1998: 38-39], основанному на частной собственности и экономическом либерализме, возникли глубокие социальные противоречия, вылившиеся в общественные потрясения.
Инициатива имела вертикальную направленность, исходящую от государства. А на уровне хозяйствующих субъектов, институтов местного управления идея не вызрела. Некоторые аспекты этой сферы представляли собой лакуны. Поэтому развитие всего того, что составляет горизонтальное взаимодействие, пошло по своеобразной траектории, порождая жесткие социально-экономические противоречия в обществе, например синдицирование в промышленности, феномен кулачества при снижении регулирующей роли общины. В зависимости от масштабов хозяйственной деятельности институционализировалась некая монополия на местный, региональный, национальный рынок. Таким образом, блокировалось генерирование новых государственных и рыночных структур, регулирующих потоки денег, труда, товаров и оптимизирующих каналы взаимодействия.
В советский период строительства антикапиталистической системы, следуя логике антисистемы, отрицался рынок, капитал, конкуренция, выстраивалась жесткая вертикаль, сводя к минимуму горизонтальные функции. Государство полностью брало на себя управление деятельностью муниципалитетов. Но система не справилась с нагрузкой. Ее ахиллесовой пятой был распределительно-регулирующий механизм – громоздкий и неэффективный.
Слом советской системы в годы перестройки и ставка на тотальную либерализацию экономики в постперестроечный период поставили муниципальную систему на грань полного разрушения. К обществу пришло осознание, что «технический» экспорт социально-экономической модели бесперспективен. Необходимо создавать собственную модель, творчески используя различный опыт. Но обязательным условием созидания является преемственность. Поэтому огульное отрицание советского опыта сменилось пониманием необходимости его переосмысления.
В итоге мировоззренческий и научно-теоретический спор приверженцев западнической концепции линейного исторического процесса и сторонников теории славянофилов о самостоятельном историческом пути русской цивилизации остается неразрешенным.
Современный исторический этап (начало XXI в.) ознаменовался кризисом идей и концепций. Полемика по данной проблематике приобрела схоластический характер. Вызвано это тем, что за очень короткое время в историческом процессе российское общество пережило разрушение советской мир-экономики в период перестройки; постперестроечные попытки построить либеральную систему не остановили дальнейшее разрушение. На современном этапе превалирует критическое отношение к либерализму в социально-экономической сфере. Условно смена общественных настроений представляется как отрицание советской системы, сменившееся отрицанием отрицания, а затем и отрицанием экономического либерализма.
Критическое отношение к рыночной экономике, капиталистической социальной системе нарастает адекватно развивающемуся с 2008 г. мировому финансовому кризису, который перерос в системный. Сегодня в международных экономических и научных кругах обсуждается проблема несоответствия рыночных институтов требованиям времени. На это указывают Клаус Шваб, Жак Аттали, А.И. Фурсов [Фурсов 2014: 236-237].
Чрезвычайная сложность ситуации заключается в неопределенности дальнейшего цивилизационного развития. До настоящего времени этот путь был понятен. Согласно исторической периодизации Б. Гильдебранда развитие человечества делится на 3 этапа – натуральное, денежное и кредитное хозяйство. Переживаемый сегодня мировой кризис свидетельствует о достигнутых пределах кредитного хозяйства, т.к. применение традиционных методов выхода из него невозможно. Если предыдущие кризисы преодолевались за счет включения новых территорий в мирохозяйственные отношения и наращива- ния эксплуатации природных ресурсов, то в настоящее время формирование глобальной экономики завершилось, и закончилась эра дешевых природных ресурсов. Соответственно, невозможен дальнейший рост общества высокого потребления. Все это заставляет говорить об исчерпании потенциала западной мир-системы.
Сложившаяся ситуация открывает для российского общества новые возможности. Значительно расширившиеся эмпирические знания о западной системе требуют переосмысления собственной стратегии общественно-экономического развития и место в ней заимствования чужого опыта. В этой связи весьма актуальной представляется теория институциональных матриц С.Г. Кирдиной. В своей монографии она подчеркивает, что в России доминирует иная институциональная матрица – X -матрица, а не Y -матрица, присущая Западу [Кирдина 2014]. Введение в научный оборот категории «институциональная матрица» является значительным вкладом в понимание сложностей и неудач внедрения западных моделей в отечественную общественно-экономическую систему. Матрица не предполагает замены ее отдельных фрагментов. Необходимые положительные изменения возможны при условии работы над самой матрицей. Под этим подразумевается творческое применение успешно реализованных концепций в планомерной работе по совершенствованию социальной системы.
В этой связи важно не совершить ошибку, а такие примеры известны, когда построение пострыночных отношений оборачивалось откатом к дорыночным. По аналогии сегодня, когда речь идет уже об исчерпании позднего «информационного» капитализма, важно не совершить ту же ошибку – не воспроизводить системы прошлого.
Как эта работа велась на современном этапе (в истории – это последние 20 лет), С.Г. Кирдина раскрывает в своей монографии. Она предложила и обосновала периодизацию: первый период – 1990-е гг., когда «происходило повсеместное “шоковое” внедрение разнообразных экономических, политических и идеологических институциональных Y-новелл»; второй – нулевые годы – «переориентация социально-экономической политики от повсеместного внедрения институтов Y-матрицы в сторону модернизации институтов Х-матрицы» [Кирдина 2014: 288-293].
В сложившихся обстоятельствах очень сложно опираться на готовые решения. Ключевым становится вопрос о ментальной готовности населения к определенным формам и способам экономической активности. Исторический анализ должен способствовать пониманию общей картины, что послужит основой для творческого подхода к накопленному арсеналу методов и практических решений.
В статье «Проблемы и перспективные подходы к организации муниципального развития в России» В.А. Марков, А.Н. Ершов и В.Ю. Корженко указывают на истощение трудовых резервов вследствие перенаселенности центральных районов, на малую товарность рынка, исчерпание внутренних резервов и их дефи- цит на уровне МО [Марков, Ершов, Корженко 2016]. Они выделили три группы проблем: экономическую неэффективность, организационно-структурные проблемы, недостатки механизмов управления развитием муниципалитетов (ресурсные, кадровые) и показали перспективные подходы к их решению.
Для улучшения качества муниципального развития необходимо вновь осуществить освоение территорий страны, найти новые ресурсы и вовлечь их в хозяйственный оборот на новом технологическом уровне; обеспечить мобильность и прозрачность рынка инвестиций; сделать прозрачными на национальном уровне муниципальные рынки. Последнее позволит провести экспансию на рынок ресурсов. Механизмы, способствующие взаимодействию между инвесторами и муниципалитетами, консалтингу для тех и других по наиболее эффективным способам отношений, сделают реализуемыми программы модернизации, снизят издержки поиска и привлечения партнеров, на основе единого информационного пространства дадут независимую статистику о состоянии территорий. Таким образом, будет решен комплекс проблем на основе поддержки исторически сложившейся склонности к кооперативной, а не к конкурентной экономической активности; согласования интересов муниципалитетов и бизнеса на основе подбора лучших взаимных условий в национальном пространстве (прозрачного рынка) и снятия проблемы ограниченности ресурсов за счет кратного повышения их мобильности.
Сложность задачи состоит в отсутствии подобного опыта. В отечественной истории имели место две попытки решения вопроса. Первая – на рубеже XIX–XX вв., когда создание института земств, активное продвижение идеи кооперации и столыпинская аграрная реформа предположительно должны были запустить подобный механизм. Но незрелость всех составляющих не позволила получить искомый результат. Вторая попытка была предпринята в условиях нэпа, когда все институты были функционально жестко ограничены политикоидеологическими установками. В современных условиях институты местного управления и общество формально готовы к скоординированному взаимодействию. Для успешного развития необходимо руководствоваться принципом метасистемного перехода, т.е. ориентацией на саморегулируемые, непрерывно эволюционирующие формы партнерства государственных и рыночных структур, обеспечивающих муниципальное развитие через оптимизацию потоков инвестиций, труда, товаров, использование самых коротких путей и удобных способов взаимодействия.
Список литературы Развитие муниципалитетов в российском культурно-историческом пространстве
- Гудков Л. 2012. Инерция пассивной адаптации. -Россия -2020: Сценарии развития (под ред. М. Липман, Н. Петрова). М.: РОССПЭН. С. 463-482
- Марков В.А., Ершов А.Н., Корженко В.Ю. 2016. Проблемы и перспективы подхода к организации муниципального развития в России. -Власть. № 1. С. 15-22
- Кирдина С.Г. 2014. Институциональные матрицы и развитие России: введение в Х-Y-теорию. 3-е изд., перераб., расш. и илл. СПб.: Нестор-История. 468 с
- Россия в многообразии цивилизаций (под ред. Н.П. Шмелева). 2011. М.: Весь Мир. 896 с
- Рязанов В.Т. 1998. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX -XX вв. СПб: Наука. 796 с
- Фурсов А.И. 2014. Вперед, к победе! Русский успех в ретроспективе и перспективе. М.: Изборский клуб, Книжный мир. 320 с