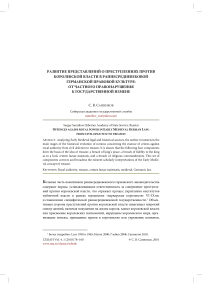Развитие представлений о преступлениях против королевской власти в раннесредневековой германской правовой культуре: от частного правонарушения к государственной измене
Автор: Санников Сергей Викторович
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: История древнего права
Статья в выпуске: 1 т.4, 2010 года.
Бесплатный доступ
На основании анализа раннесредневековых западноевропейских правовых и историографических памятников автор реконструирует этапы эволюции представлений о сущности преступлений против королевской власти от частного нарушения к государственной измене. В статье выделяется четыре составляющих, выступавших основой представлений о сущности государственной измены, − это нарушение королевского мира, нарушение верности правителю как господину, преступление умаления величия и нарушение религиозных заповедей. Данный перечень существенно корректирует и дополняет выработанное в европейской науке представление о содержании средневекового понимания сущности государственной измены.
Королевская власть, измена, преступление умаления величия, средневековый, германское право
Короткий адрес: https://sciup.org/147103298
IDR: 147103298
Текст научной статьи Развитие представлений о преступлениях против королевской власти в раннесредневековой германской правовой культуре: от частного правонарушения к государственной измене
Большая часть памятников раннесредневекового германского законодательства содержит нормы, устанавливающие ответственность за совершение преступлений против королевской власти, что отражает процесс укрепления институтов публичной власти в рамках германских «варварских королевств» VI–IX вв. и становление специфической раннесредневековой государственности.1 Объективная сторона преступлений против королевской власти охватывает широкий спектр деяний, включая покушение на жизнь короля, захват королевской власти или присвоение королевских полномочий, нарушение королевского мира, организацию мятежа, приведение врагов в королевство или укрывание шпионов, посягательство на королевское имущество, а также оскорбление короны.2 Изучение представлений о сущности рассматриваемых преступлений ставит ряд вопросов, в отношении которых среди исследователей пока не выработано единого мнения. В частности, открытым остается вопрос о влиянии римского права (прежде всего, доктрины о «преступлениях умаления величия» - crimen laesae maiestatis) на развитие германских раннесредневековых представлений о сущности государственной измены.3
Некоторые исследователи (В. Вильда, Дж. Беллами) высказывают точку зрения о том, что «римская концепция умаления величия оставалось для германцев чуждой, хотя нарушение верности правителю обозначалось как crimen maiestatis» (Wilda 1842; переводы автора, если не оговорено иное), а «средневековая мысль вряд ли была достаточно зрелой, чтобы понять и применить римские концепции, и несложная природа управления не очень нуждалась в публичном римском праве» (Bellamy 1970, 3). В то же время другие авторы (Ф. Поллок, Ф. В. Майтленд) полагают, что «никакая другая часть римского права не была с такой очевидностью имитирована завоевателями римских территорий и провинций» (Pollock–Maitland 1898, I, 51), а установленная раннесредневековым законодательством ответственность за посягательство на жизнь правителя в форме лишения жизни и имущества виновного «не отражает какую-либо исконно германскую традицию, но заимствовано из римского закона о “величии (maiestas)”, одним из основных разделов которого был замысел против жизни ключевых магистратов» (там же).
Для того чтобы более точно оценить характер взаимодействия римских и германских правовых традиций в процессе становления раннесредневековых представлений о государственной измене, необходимо уточнить характер представлений о сущности преступного деяния и измене правителю в древнегерманском праве, значительно менее изученном в данном контексте, нежели современное ему римское право. Исследование такого рода представляется целесообразным начать с реконструкции правовой лексики, отражающей представления германцев о сущности преступного деяния. Источником исследова- ния могут служить англосаксонские королевские законы (domas), являющиеся наиболее ранними правовыми памятниками, составленными на германском языке (в отличие от континентальных памятников, записанных на латыни), и отражающие аутентичные правовые категории соответствующей эпохи.4
Для обозначения различного рода правонарушений в рассматриваемых памятниках применяется широкий спектр терминов, характеризующихся как родовыми, так и видовыми признаками. Основным родовым понятием, используемым для обозначения правонарушений в кодексе короля Альфреда и синхронных ему англосаксонских памятниках, является древнеанглийская лексема dæd («деяние»). От нее образовано такое широко используемое в древнеанглийской правовой лексике понятие, как misdæd 5 (букв. «дурное дело», «злодеяние»),6 используемое для обозначения правонарушений как частного, так и публичного характера.7 Необходимо отметить, что в рассматриваемом концепте сложно дифференцировать материальную и формальную составляющие, поскольку понятие misdæd тесно связано как с представлением об определенном ущербе, «зле», нанесенном пострадавшему лицу (данное понятие по своей семантике близко римскому понятию maleficium и русскоязычному злое дело ), так и с представлением об отклонении от правильной, правомерной модели поведения (в словаре Дж. Босворта – Т. Н. Толлера частица mis - трактуется как указание на дефект или несовершенство, то есть отклонение от нормы).8 Недифференцированность материальной и формальной составляющих прослеживается и в ряде других понятий, использовавшихся в древнеанглийской лексике для обозначения преступного действия или деликта, в частности, понятиях gylt 9 (букв. «вина»)10, eofot 11 (букв. «долг»)12, who 13 (букв. «ошибка, превратное поведение»).14
Правовая культура германцев дает основания для вывода о господствующем значении материального признака в понимании сущности правонарушения. Как отмечает Л. фон Бар, «в соответствии с германской концепцией сущность преступления состоит не в нарушении формального права и порядка, а, скорее, в нарушении материального права. Об этом должен всегда помнить каждый, надеющийся достичь верного понимания германского уголовного права и его исторического развития. В германской концепции закона так называемое “формальное преступление”, то есть преступление, которое не нарушает какого-либо конкретного права, рассматривается как специальное исключение» (Bar 1916, 65). Иначе говоря, принципиальное значение для германской правовой культуры раннего средневековья играл не формальный, а материальный признак преступного деяния. Данная концепция согласуется с точкой зрения российского правоведа В. В. Есипова (1903, 22), который отмечает, что «у германцев основой преступности было грубое понятие вреда, мерою наказуемости был личный ущерб пострадавшего… Преступное деяние продолжало оставаться понятием чисто материальным, связанным с идеей ущерба, убытка, вреда».
Исследователями также высказывалась точка зрения о том, что преступное деяние рассматривалось в древнегерманской культуре как правонарушение частного характера. Как отмечает в своей работе Генри Чарльз Ли, «идея о том, что преступление (crime) является проступком (offence) против общества в целом, мало прослеживается в концепциях варварских законодателей. Слабо связанные образования, которые сменили Римскую Империю, были основаны на двух основных принципах – независимости отдельного гражданина и солидарности семьи; на взаимодействии этих двух принципов основана юриспруденция данного периода. Преступник был ответственен не перед государством, а перед потерпевшей стороной… каждый нес ответственность за свои деяния не перед законом, а перед тем, кому нанесен вред» (Lea 1870, 14–15). Данная точка зрения согласуется с изложенным в работе Я. Гримма взглядом на сущность древнегерманских представлений об ответственности правонарушите-ля.15 В связи с данными оценками возникает правомерный вопрос о корректности употребления современного понятия преступления применительно к анализу германских правовых категорий эпохи раннего средневековья.
Необходимо уточнить, что основанием для условного выделения норм уголовно-правового регулирования в древнегерманском праве является критерий характера правовых последствий, предусмотренных санкцией рассматриваемых норм. Традиционно выделяется четыре вида уголовно-правовых инстру- ментов, характерных для раннесредневекового англосаксонского уголовного права: кровная месть, денежный штраф, объявление вне закона и наказание, связанное с вопросом «о жизни и членах».16 Необходимо отметить, что эволюция форм ответственности за совершение преступного деяния, вероятно, отражает процесс развития сферы публично-правовых отношений у германских народов.
При рассмотрении вопросов становления идеи публично-правовой ответственности в древнегерманской правовой культуре исследователи, как правило, проявляют тенденцию к разделению преступлений по объекту преступного посягательства, выделяя в древнегерманском праве преступления против сообщества в целом (преимущественно военные преступления), каравшиеся в сакрально-правовой форме, и преступления против отдельного рода, предполагавшие кровную месть или выплату добровольного возмещения. Если при совершении преступления против общества публичный характер правонарушения, подчеркнутый сакральными санкциями, не вызывает сомнения, то при совершении деяний против частного лица публичная ответственность правонарушителя не является очевидной. Как отмечает А. Ф. Бернер, «не нужно особого глубокомыслия для того, чтобы прийти к тому убеждению, что частная месть должна быть древнее, чем общественное право наказывать».17
Необходимо отметить, что дифференциация гражданской частноправовой и уголовной публично-правовой ответственности в древнем и средневековом праве была не вполне развита, что находит отражение как в правовой лексике, так и в представлениях о системе права: «Не всякие суды, в которых рассматривается преступление, являются также публичными, но только те, которые возникают на основании законов [о преступлениях, относящихся] к публичным судам, например: Юлия [о преступлении] против величия, Юлия о прелюбодеяниях, Корнелия об убийцах и отравителях, Помпея об убийстве ближайших родственников, Юлия о казнокрадстве, Корнелия о завещаниях, Юлия о частном насилии, Юлия о публичном насилии, Юлия о противоправном домогательстве почетных должностей, Юлия о взяточничестве, Юлия о хлебе».18 Деликт и преступление не всегда были четко терминологически дифференцированы в древней и средневековой юридической лексике: «В латинском литературном языке для обозначения правонарушения употреблялись семь основных терминов: delictum, crimen, maleficium, peccatum, facinus, flagitium, scelus . Наиболее древ- ним из этих понятий было, несомненно, последнее – scelus, которое активно употреблялось еще в текстах Плавта и Теренция. В то время именно оно было основным для обозначения правонарушения. С формированием корпуса законодательных памятников республиканской эпохи на первое место среди этих терминов выходит crimen, в то время как три последних термина все больше и больше вытесняются из околоправовой терминологии» (Марей 2005, 16–17).
При рассмотрении вопроса о становлении публично-правового регулирования частных правонарушений в древнегерманском праве исследователи уделяют большое внимание структуре денежного возмещения за совершенное преступление. Согласно мнению Н. Д. Иванишева (1840, 6–7), «в преступлении уже при Таците начинает закон различать две части: оскорбление, причиненное фамилии (роду – С. С. ), и вред, нанесенный ей умерщвлением одного из ее членов, а с другой стороны нарушение закона, или преступление в смысле уголовном. На этом основании в германских законодательствах, во все времена существования виры, плата за убийства составлялась из двух частей: одна часть принадлежала обиженному, как следствие гражданского иска об удовлетворении за причинение вреда, а другая часть принадлежала государству или государю. Следовательно, плата за убийство у германцев уже в древнейший период одной частью принадлежит праву гражданскому, а другая ее половина носит характер чисто уголовный… Мало-помалу элемент уголовный усиливается, уничтожает виру и сам является в виде смертной казни». Данная точка зрения содержит элемент модернизации древнегерманской правовой культуры, поскольку собственно нарушение закона, вне контекста материальных последствий, вряд ли могло рассматриваться в качестве основания для правовой ответственности. Более точно данный процесс, как представляется, выражает В. В. Есипов (1903, 3): «Так как вредоносное действие одновременно нарушало и общий мир, то народ присваивал себе часть буссы (выплаты – С. С. ), которая считалась вначале за вознаграждение, затем видоизменилась и наконец приняла вид публичного штрафа».
В то же время неоднозначной является точка зрения В. В. Есипова о том, что часть выплаты присваивалась в качестве вознаграждения. Известно, что процедура уплаты виры в рамках акефальных германских обществ производилась непосредственно представителям рода потерпевшего, а переговоры об уплате виры велись зачастую без услуг посредников.19 Из материала саг известно, что половина имущества преступника отходила в пользу определенных лиц соответствующей административной единицы («четверти») в случае объявления преступника вне закона,20 однако данный случай должен быть дифференцирован от выплаты виры за совершенное правонарушение. Одним из наиболее ранних свидетельств, указывающих на практику выплаты за совершенное преступление, является свидетельство Тацита, согласно которому в древнегерманских обществах «с изобличенных взыскивается определенное количество лошадей и овец. Часть наложенной на них пени передается царю или племени, часть - пострадавшему или его родичам».21 Как отмечает А. Ф. Бернер, «Денежные пени были самым обыденным наказанием. Эти денежные наказания имели двоякое назначение. Часть их шла обиженному, в виде частного выкупа, часть общине, в виде общественного выкупа или штрафа. Первая часть называлась Compositio, пеня; последняя - Fredum или ви-ра».22 Установление системы выплат в пользу правителя за совершенные правонарушения сопровождало, по всей видимости, процесс становления вождеств,23 а превалирование элемента публично-правовой ответственности над частноправовым началом воспринималось германцами поначалу негативно, что прослеживается на примере раннесредневековой Скандинавии.24
Наиболее архаичной практикой, связанной с выплатой штрафа за совершенное преступление, является, вероятно, выплата за нарушение сакрального мира. Примером подобного воздействия архаического сакрального права являются содержащиеся в раннесредневековом германском праве охранительные нормы, устанавливающие ответственность за нарушение «мира тинга» (þingsfriþ), то есть учинение раздора в общественном собрании.25 Данные нормы имеют несомненное сакральное происхождение, поскольку древнегерманские общественные собрания проводились под руководством жрецов, носили сакральный характер, и проводились в соответствии с определенным порядком, за соблюдением которого наблюдали жрецы, наделенные исключительными полномочиями осуществлять наказание над провинившимися, вплоть до смертной казни.26 Нарушение сакрального порядка воспринималось как нарушение священного права, публичное правонарушение, возмещение за со- вершение которого осуществлялось уже не в пользу отдельного рода, а в пользу общественного собрания,27 земли,28 или правителя,29 как хранителя мира.
Само название части выплаты, передававшейся правителю, известное из франкских правовых памятников как fredum , указывает на связь данной концепции с сакральной концепцией мира. Концепция «мира» ( friþ ) является одной из центральных концепций архаического германского права, которая подразумевала распространение норм права, обеспечивавших сакральную защиту от каких-либо посягательств извне, на свободного полноправного члена общества, либо отдельные общественные институты и наиболее важные события (церковь, тинг, святые дни, и т. д.). Нарушением мира считалось совершение враждебных действий, учинение раздора, обнажение оружия, скандальное поведение, произведенные в соответствующем «круге мира» какого-либо человека, в жилом помещении или в месте отправления религиозного культа, либо в определенный период (например, во время священного поста). Человек, лишенный в судебном порядке мира, оказывался вне закона, лишаясь права на выплату вергельда его родственникам, защиту его прав в суде, или на право прибежища.
Раннесредневековое германское право особенно выделяет «королевский мир»,30 представление о котором получает отражение в установлении ответственности за нарушение общественного порядка или проявление враждебности в присутствии короля.31 В наиболее раннем англосаксонском памятнике обычного права, законах (domas) короля Этельберта, содержится норма, устанавливающая уплату штрафа в двойном размере за совершение преступления в доме, в котором пирует король.32 О древности данной нормы свидетельствует содержащаяся в наиболее раннем сборнике законов лангобардов ремарка о том, что «все королевские же дела, непосредственно относящиеся к королю, по ко- торым усматривается уплата штрафа или предъявляется иск, оплачиваются согласно старому обычаю (курсив мой – С. С.) вдвойне».33
В кодексе короля Альфреда предусмотрена уже более суровая санкция за подобное преступление, вплоть до смертной казни, на усмотрение короля.34 Аналогичная мера предусмотрена законодательством лангобардов: «Если кто в королевском дворце (intra palatium regis) во время присутствия короля раздор учинит, пусть будет он предан смертной казни или выкупит жизнь свою, если сможет добиться этого от короля».35 Эдикт Ротари предусматривает наказание штрафом за учинение скандала или раздора в том городе, в котором находится король,36 а закон аламаннов устанавливает девятикратный размер штрафа за кражу, произведенную в войске, которым командует король.37 Королевский мир распространялся также на людей, исполнявших поручения короля или направлявшихся на встречу с королем.38 Появление подобных норм отражает характерное для раннегосударственного права обособление статуса правителя, связанное с формированием представлений о правителе как носителе верховной власти, что «проявляется в первую очередь в ужесточении санкций при покушении на личность или имущество правителя».39 Наиболее тяжким нарушением королевского мира являлось посягательство на жизнь короля, которое, в соответствии с нормами раннесредневекового права, каралось смертной казнью.
Представление о специфическом «королевском мире», по всей видимости, не было свойственно племенным германским обществам, в рамках которых мир короля не имел существенных отличий от мира частного лица. Подтверждением этому может служить описание общности герулов, составленное Прокопием Кесарийским, зафиксировавшим начало процесса централизации власти в этом племени, а именно: появление фигуры постоянного племенного короля, власть которого носила во многом еще номинальный характер: «…их король носил это звание только на словах, не имея почти никаких преиму- ществ сравнительно с любым частным человеком. Все могли сидеть вместе с ним и требовали права быть его сотрапезниками, и беспрепятственно всякий, кто хотел, мог нанести ему оскорбление». При этом, герулы, «исполненные сильного гнева, без всякого стеснения бранили своего короля Родульфа и, постоянно приходя к нему, называли его впавшим в изнеженность и ставшим слабым, как женщина, и, насмехаясь и обзывая его другими неподходящими словами, всячески понося, бранили его» за то, что в течение трех лет король Родульф не провел ни одной войны. 40
Данное поведение герулов отражает характерные для традиционных германских обществ представления о достоинстве частного лица, согласно которым публичное обвинение в совершении бесчестящих человека поступков не считалось оскорблением, и не предполагало наказания, если обвинение было заслуженным. Как отмечает М. В. Духовской (1873) при рассмотрении правонарушений, связанных с клеветой в адрес частных лиц в германском праве, «exceptio veritatis допускалось вообще в германских народных правах, и полагаем, что унижение лица в глазах других считалось преступлением только тогда, когда упрек был незаслужен. Если же упрекавший мог доказать, что он имел основание сделать подобный упрек, если он привел далее факты к подтверждению своих слов, то преступление не существовало».
Описанное Прокопием Кесарийским отношение герулов к своему королю как частному лицу разительно отличается от раннесредневековой модели отношений правителя и подданных, отраженной, в частности, в вестготской «Судебной книге» (Liber Iudiciorum), демонстрирующей значительное влияние римского права: «Если кто-либо будет обвинять правителя в преступлении или произносить проклятия в его адрес, и, вместо смиренного и уважительного указания ему на его жизнь, станет высокомерно и дерзко оскорблять его, или, рассчитывая унизить его, станет обращаться к нему в пренебрежительных, непотребных и дерзких выражениях, то, если обидчик будет принадлежать к знати или семье высокого положения, будь он клирик или мирянин, как только он будет замечен и обвинен, он теряет половину своей собственности, с которой правитель имеет власть поступать по своему усмотрению. Если, однако, он принадлежит к ничтожным и низким сословиям, или тем, кто не обладает достоинством, тогда и его имущество, и он сам поступают в полное распоряжение короля».41
В архаических германских обществах персона носителя власти не считалась неприкосновенной, более того, максимальным выражением враждебности к правителю становились убийства представителей власти. Подобное убийство описано Прокопием Кесарийским, согласно свидетельству которого герулы убили человека, исполнявшего роль короля, желая жить вообще без правите-ля.42 Подобные действия имели место, по всей видимости, и в скандинавских обществах, где существовал «обычай приписывать королю урожай и неуро-жай»,43 и конунга могли принести в жертву богам в случае его неудачного правления.44 По свидетельству Аммиана Марцеллина, «у бургундов каждый король... принуждается к отречению от власти и устраняется в случае, если при нем племя постигнут военные неудачи или земля откажет в достаточном урожае хлеба (segetum copiam negaverit terra)».45 Военно-демократические традиции позволяли войску выражать недоверие правителю в случае появления сомнений в его лояльности народу – подобным образом была решена судьба короля остготов Теодохада, - в тот момент, когда поведение доверенных лиц Теодахада показалось «готскому войску… подозрительным», «оно криком требует свергнуть Теодахада с престола и поставить королем вождя их Витиге-са, который был теодахадовым оруженосцем. Так и было сделано. Тут же, на Варварских полях, Витигес вознесен на престол».46
Основными источниками легитимности королевской власти в архаических германских обществах могут считаться такие факторы, как личная харизма, влияние королевского рода, успехи в осуществлении военных походов, благоприятная экологическая обстановка в период правления короля, консенсуальный характер правления, соблюдение процедуры избрания и выполнение необходимых ритуалов осуществления власти. Удержание власти, по всей видимости, обеспечивалось в данных условиях не только личным влиянием, подкрепленным существующими представлениями о сакральном характере власти и удачи короля, его родстве с богами, но и наличием преданного вождю окружения, телохранителей и военной дружины. Немаловажным, если не основным, фактором защиты правителя от посягательств на захват власти на протяжении значительного периода времени остается его личная физическая сила, требовавшаяся при осуществлении расправы с недоброжелателями и конкурентами.
В архаических германских обществах поединок играл значительную роль как одна из древнейших форм осуществления правосудия, к использованию элементов которого в отдельных случаях были вынуждены прибегать и правители, подтверждавшие такие образом харизматическую легитимность своей власти. Наиболее ярко эпизод такого рода описан в произведении Павла Диакона: «Когда двое его (короля лангобардов Лиутпранда – С. С. ) оруженосцев замыслили его убить, и об этом ему доложили, то он в одиночку отправился с ними в очень густой лес и там, внезапно обнажив на них меч, стал укорять их за то, что они хотели его убить и предлагал им попробовать сделать это теперь. И они сразу же упали на колени и рассказали ему обо всем, что замышляли. Таким же образом он поступал и с другими, и все время он постоянно прощал тех, кто сознавался перед ним, даже если они и были замешаны в столь злодейском преступлении».47 Весьма характерно, что Павел Диакон характеризует короля Лиутпранда при описании данных эпизодов как «мужа великой храбрости»,48 поскольку способность лично расправиться со своим врагом особенно высоко ценилась в рамках традиционных германских обществ.
Необходимо отметить, что личная расправа во многих случаях являлась более эффективным методом противодействия заговорам, нежели судебный процесс, поскольку в руках носителя королевской власти зачастую не было достаточных инструментов государственного принуждения для использования их против влиятельных лиц государства. К подобной модели сведения счетов со своим обидчиком, в частности, прибегает король франков Хлодвиг, избравший в качестве способа расправы публичное убийство своего недоброжелателя из числа франкской знати во время проведения военного смотра войска: «Когда он (король – С. С. ) обходил ряды воинов, он подошел к тому (своему противнику – С. С. )… и сказал: “Никто не содержит оружие в таком плохом состоянии, как ты. Ведь ни копье твое, ни меч, ни секира никуда не годятся”. И, вырвав у него секиру, он бросил ее на землю. Когда тот чуть-чуть нагнулся за секирой, Хлодвиг поднял свою секиру и разрубил ему голову».49
Весьма характерным примером слабости институтов государственного принуждения и судебной защиты является описанный Павлом Диаконом эпизод, когда король лангобардов Куникперт «держал в Тицине совет со своим конюшим… о том, каким образом ему можно было бы лишить жизни» мятежных представителей знати лангобардов Альдо и Граусо, поддержавших открытое выступление против короля.50 Задача по устранению политических соперников, противостоявших королевской власти, нередко решалась королем при помощи ближайшего окружения, и законодательство лангобардов специально предусматривало снятие ответственности с лица, совершившего убийство по приказанию короля: «Если кто совещался с королем о лишении жизни другого или убил человека по его приказанию, нет ему ни в чем вины, и пусть во все времена ни он, ни наследники его не терпят от того, на жизнь которого покушались, или от наследников его изыскания или беспокойства; ибо мы полагаем, что сердце короля находится в руке Господа [и] невозможно то, чтобы [какой-нибудь] человек смог снять обвинение в того, кого король приказал убить».51
Необходимость обеспечения физической безопасности короля обусловливала формирование отряда вооруженных телохранителей, которые всегда присутствовали в составе его свиты. Согласно свидетельству Веллея Патеркула, при короле маркоманнов Марободе «всегда была стража из его соплеменни-ков».52 Действие телохранителей по защите жизни короля описаны в одном из фрагментов произведения Павла Диакона: «Когда король Лиутпранд был посвящен в королевское достоинство, его родственник Ротари замыслил его убить. В своем доме в Тицине он подготовил для него пир и спрятал там несколько сильных вооруженных людей, которые должны были убить пирующего короля. Когда об этом было доложено Лиутпранду, то он приказал, чтобы Ротари явился в его дворец, и когда здоровался с ним, то ощупал его и обнаружил, что, как ему и сообщили, у того под одеждой был спрятан панцирь. Когда Ротари обнаружил, что раскрыт, то внезапно отпрыгнул назад и обнажил свой меч, чтобы убить короля. Со своей стороны, король извлек из ножен свой собственный меч. Один из королевских слуг по имени Субо схватил Ротари сзади, но был ранен им в лоб. Но другие слуги набросились на Ротари и убили его. Четверо его сыновей, которые там не присутствовали, были также преданы смерти в тех местах, где их застали».53
Физическая расправа над недоброжелателями при помощи королевской дружины является, вероятно, одной из древнейших форм самозащиты королевской власти. Учитывая, что институт королевской власти имел в древнегерманских обществах тесную связь с институтом военного предводительства, можно полагать, что любое посягательство на жизнь короля должно было решаться в соответствии с описанным еще Юлием Цезарем правом германского военного вождя «распоряжаться жизнью и смертью».54 Данное королевское право, вероятно, носило экстраординарный характер, обусловленный специфичным характерном как самого института королевской власти, так и ситуации с посягательством на жизнь правителя, и вряд ли могло рассматриваться в контексте обычного германского права, направленного, прежде всего, на регулирование отношений между частными лицами.
Одним из наиболее ранних свидетельств расправы германского короля над обвиняемыми в предательстве является описание Иорданом действий короля готов Германариха, предавшего смертной казни жену одного из своих подданных, обвиненного в измене: «Одну женщину из вышеназванного племени [росомонов], по имени Сунильду, за изменнический уход [от короля], ее мужа, король [Германарих], движимый гневом, приказал разорвать на части, привязав ее к диким коням и пустив их вскачь».55 Описанный выше вариант казни, по всей видимости, считался у германцев бесчестящим, поскольку в тексте «Книги истории франков» подобная расправа над королевой Брунгильдой характеризуется как «позорнейшая смерть» (mors turpissima). 56
По отношению к изменникам применялись и другие бесчестящие меры возмездия, прежде всего, нанесение физических увечий. В Истории лангобардов Павла Диакона сохранилось свидетельство о том, что, когда некто Ансфрит, «не довольствуясь правлением герцогством фриульцев, восстал против Кунинкпер-та и попытался узурпировать королевскую власть», он был схвачен в Вероне и доставлен к королю, и тогда «у него были вырваны глаза, и он был отправлен в изгнание».57 Сходная расправа была учинена над герцогом Корволом, который «нанес оскорбление королю», после чего «у него были вырваны глаза, и он продолжал жить в позоре».58 «…король Ариперт, после того как утвердился на престоле, лишил глаз Сигипранда (Sigiprand), сына Анспранда и различными путями уничтожил всех, кто был связан с последним кровными узами».59
Если в отношении мужчин более распространенной формой возмездия являлось лишение зрения, то женщины, как правило, подвергались нанесению увечий, приводящих к физическому уродству. Павел Диакон описывает такого рода действия следующим образом: «Король Ариперт приказал схватить жену Анспранда, именем Теодорада (Theodorada), и когда та стала по своему женскому упрямству хвастать, что добьется того, что станет королевой, то ее красивое лицо было изуродовано, и отрезаны нос и уши. Также подобным же образом была искалечена и сестра Лиутпранда по имени Аврона (Aurona)».60 Иордан также сообщает, что король вандалов Гунерих, заподозривший свою жену в приготовлении яда, приказал отрезать ей нос и уши, и изгнал ее из королевства.61
Другой распространенной формой борьбы с политическими оппонентами было совершение принудительного пострижения в монахи и последующее изгнание, сопровождавшееся фактическим заточением в монастыре. Данные меры были особенно популярны в отношении близких родственников короля, поскольку, согласно германским обычаям, родственники не должны были проливать кровь своих близких.62 К подобной форме борьбы, в частности, прибегал Хлодвиг, когда устранял своих политических оппонентов из франкских королевских фамилий.63 Сходные действия совершались королем лангобардов в отношении мятежных герцогов: «Король Ариперт… схватил этого ложного короля Ротарита и, обрив ему голову и бороду, отправил в изгнание в Турин, где спустя несколько дней тот был убит. Таким же образом, во время мытья в бане, он лишил жизни и Лиутперта».64 Убийство родственников было предпочтительно совершать без пролития крови, путем отравления, удушения или утопления, в связи с чем именно римские бани являлись идеальным местом для подобного сведения счетов. Так, король остготов Теодат, согласно описанию Иордана, «забыв о единокровии, через некоторое время… вывез ее (королеву Амаласвинту – С. С.) из равеннского дворца и заточил в изгнании на острове Бульсинийского озера, где она, прожив в печали весьма немного дней, была задушена в бане его приспешниками».65 Весьма показательной в подобном отношении является оправдательная речь короля франков Хлодвига, посредством который он стремится очистить себя от возможных подозрений в убийстве родственников: «Во всем этом я совершенно не виновен. Ведь я не могу проливать кровь моих родственников, поскольку делать это грешно».66
Помимо «королевского мира» существовала и другая древняя форма охраняемых правом отношений между правителем и его подданными, известная из англосаксонских памятников как treowa ,67 а в латинской трансляции – как fidelitas . Как отмечает А. Г. Глебов (2000), в одном из средневековых переводов библейской истории король Альфред «делает любопытную вставку: Давид воздержался от убийства Саула (переводчик характеризует царя, как его “старого глафорда” [ealdhlaford]) не только из страха перед Господом, но и из-за укоренившейся “преданности” (treowum) своему господину». Представляется, что данным термином Альфред передает важную категорию, характеризующую отношения между вождем (господином, глафордом) и его людьми – отношения верности, достаточно экспрессивно выраженные в произведении Корнелия Тацита: «Выйти живым из боя, в котором пал вождь, - бесчестье и позор на всю жизнь; защищать его, оберегать, совершать доблестные деяния, помышляя только о его славе, - первейшая их обязанность: вожди сражаются ради победы, дружинники - за своего вождя».68
Нарушение мира, по всей видимости, считалось менее тяжким деянием, чем нарушение верности, поскольку нарушение мира могло быть искуплено денежным штрафом, а убийство господина как наиболее тяжкая форма нарушения верности рассматривалось средневековым законодательством как «подлое» преступление (niþingsvärk), не подлежащее искуплению. Человек, совершавший подобное преступление, терял «землю, право жить в стране и движимое имущество»,69 что соответствовало, по всей видимости, объявлению вне закона и изгнанию. Становление королевской власти сопровождалось ужесточением санкций за измену господину, - применение смертной казни, что прослеживается уже в правление короля Хлодвига, адресующего изменникам следующие слова: «Вы должны быть довольны тем, что остались в живых, а не умерли под пытками, заплатив таким образом за предательство своих господ».70
Отдельные исследователи склонны напрямую связывать установление санкции за совершение измены в виде смертной казни и конфискации имущества с влиянием норм римского права: «Измена господину, в особенности королю, карается смертной казнью. И сущность преступления уже состоит в соучастии или замысле убийства короля… Сходное понимание появляется в других германских документах. Представляется вероятным, однако, что это не отражает какую-либо исконно германскую традицию, но заимствовано из римского закона о “величии”, одним из основных разделов которого был замысел против жизни ключевых магистратов. Никакая другая часть римского права не была с такой очевидностью имитирована завоевателями римских территорий и провинций; и когда идея впервые появляется в Англии во времена Альфреда, нетрудно предположить, что она импортирована с континента» (Pollock– Maitland 1898, I, 51).
С. И. Нагих (2000) отмечает принципиальный характер изменений в восприятии сущности преступлений против королевской власти: «По мере усиления королевской власти согласно законам Альфреда Великого (вторая половина IX в.) можно наблюдать уже принципиально новую интерпретацию самого преступления против короля. Если ряд действий, направленных против короля, рассматривался лишь как правонарушения, то в этом законодательном памятнике “злоумышления” против короля трактуются как государственная измена и караются смертной казнью».
Содержащаяся в законодательстве короля Альфреда норма, устанавливающая ответственность за совершение государственной измены, звучит следующим образом: «Если кто-либо замышляет – либо сам, либо через объявленных вне закона, которым он дал приют, либо через своих людей – на жизнь короля, пусть ответит своей жизнью и всем, чем обладает».71 Обращает на себя внимание сходство содержания данной нормы с соответствующими положениями законодательства лангобардов: «Если какой-либо человек посягал на жизнь короля или советовался об этом, пусть будет он предан смертной казни и все добро его конфискуется».72 По всей видимости, высказанное Ф. Поллоком и Ф. В. Мэйтландом предположение о римском влиянии на законодательство Альфреда является справедливым. Развитие представлений о преступлениях против публичной власти складывалось в римском и германском обществах разными путями, однако активное взаимодействие данных представлений происходило в континентальной Европе в V–VI вв. (в Англии данный процесс происходил, по всей видимости, в VIII–IX вв.) и выражалось преимущественно в форме влияния римского права на позитивацию норм о crimen laesae maiestatis в германских правовых памятниках.
Сборники норм римского права, составленные в германских «варварских королевствах» в конце V – начале VI в. используют выражение crimen laesae maiestatis для обозначения преступлений против публичной власти и транслируют целый ряд связанных с ними норм римского законодательства. В остготском «Эдикте Теодориха» изложение нормы о конфискации имущества виновного в совершении рассматриваемых преступлений содержит ссылку «в соответствии с законами», подразумевающую, по всей видимости, римские законы о преступлениях против величия, в том числе, эдикт императоров Аркадия и Гонория, известный как «Lex Quisquis».73 О том, что данная норма применялась в судебной практике остготского королевства, свидетельствует произведение Северина Боэция, в котором автор отмечает, что был приговорен к смертной казни и конфискации имущества: «Меня же теперь, удалив на пятьсот миль, оставив без защиты, присудили к смерти и конфискации имущества».74
Наиболее подробное перечисление деяний, рассматривавшихся в качестве государственной измены, представлено в рамках нормы, устанавливающей ответственность за совершение враждебных действий против короля и страны, содержащейся в вестготской «Судебной книге» (Liber iudiciorum): «Если кто бы то ни было, со времен блаженной памяти короля Хинтилана, до второго года нашего правления, или впредь, к враждебному народу или на чужую сторону перешел или перейдет, или, также, желал или пожелает когда- либо, действовать с преступнейшими намерениями против народа готов, или будет замышлять против родины, или, быть может, замышлял когда-либо, и был, или будет пойман или выслежен… [или если] кто-либо в пределах страны готов попытается учинить какой-либо беспорядок, или вызывать какой-либо скандал в ущерб нашему правлению, равно как задумает или сделает, или, что недостойно даже упоминания, смерть или ранение нас или последующих королей; или проявил, или проявит намерения предателя, то: кто бы ни был виновен в этих делах, или в одном из них, непременно должен быть предан смерти».75 Перечисленные деяния рассматривались в качестве crimen maiestatis, о чем можно судить из сопоставления данного перечня с соответствующей нормой из «Римского закона вестготов»: «Преступления же эти [умаления] величия, которые определены законами, следующие: благополучие (нарушение благополучия – С. С.) правителя, сдача регионов, или тираническое обретение власти».76 На то, что римская концепция «величия» оказывала существенное влияние на представления о сущности государственной измены указывает также содержащееся в произведении Юлиана Толедского выражение «умаление славы родины» (patriae gloriam minuentes), которое он употребляет для характеристики действий мятежников.77
Другим важным элементом представлений о сущности государственной измены, унаследованным средневековой правовой культурой от эпохи поздней античности, может, по всей видимости, также считаться христианская доктрина о преступлении как греховном деянии. Поскольку преступление рассматривалось в соответствии с данной доктриной не только как нарушение королевских законов, но и как нарушение христианских заповедей, квалификация данных деяний предполагала рассмотрение в качестве источников права наряду с королевским законодательством Священного Писания и постановлений соборов.78 Большой интерес в данном отношении представляет 75-й канон IV Толедского собора, дающий церковную оценку действий, связанных с насильственным захватом королевского трона в вестготском королевстве.79
В тексте данного канона получают отражение предписания государственноправового характера, определяющие порядок функционирования основных властных институтов вестготского общества: «[Пусть] никто среди нас (готов) не захватывает власть, никто не поднимает общего мятежа подданных, никто не замышляет устранения короля. Но правитель упокоится в мире, а первые из народа со священнослужителями ставят королевского преемника на общем соборе. Поэтому в едином согласии нами поддерживается, что мы родине и народу никакого раздора через жестокие помыслы не порождаем».80 Далее в каноне следуют охранительные нормы, устанавливающие ответственность за нарушение установленного порядка передачи власти в форме отлучения от церкви: «Если [кто-либо] эти наши предостережения не принимает, и к благому общему нашему чувству никоим образом не присоединяется, выслушай наше постановление: если же кто-либо из нас или всего народа Испании, в каком-либо заговоре или устремлении, присягу своей верности, которую приносил родине и народу готов, или обещанное соблюдение благополучия короля нарушит, или посягнет на убийство короля, или свергнет власть короля, или тиранически совершит узурпацию королевской власти, да будет анафема пред взором Бога Отца и анге-лов».81 Текст данной нормы с незначительными вариациями повторяется в каноне троекратно, содержа инвокации к Святой Троице.
Таким образом, исследование раннесредневековой германской правовой культуры показывает, что для указанного периода характерно наличие не менее четырех составляющих, выступавших основой представлений о сущности государственной измены, - это нарушение «королевского мира», нарушение верности правителю как господину, «преступление умаления величия» и, на- конец, нарушение религиозных заповедей. Данный перечень существенно корректирует и дополняет выработанное в европейской науке представление о содержании средневекового представления о сущности государственной изме-ны.82 Вопреки распространенной точке зрения,83 германцы, по всей видимости, воспринимали и римскую публично-правовую концепцию maiestas как совокупность суверенных полномочий государственных институтов.84 Развитие перечисленных составляющих отражает процесс эволюции представлений о сущности преступлений против королевской власти от частного нарушения, основанного на нарушении «королевского мира», к государственной измене – преступлению, включающему, помимо нарушения мира, нарушение верности, «умаление величия» правителя, а также совершение греховного деяния, направленного против священного характера существующей публичной власти.
Список литературы Развитие представлений о преступлениях против королевской власти в раннесредневековой германской правовой культуре: от частного правонарушения к государственной измене
- Бернер А. Ф. (1867) Учебник немецкого уголовного права (Часть общая). С примечаниями, приложениями и дополнениями по истории русского права и законодательству положительному Н. Неклюдова. Том. I. 46. Электронное издание: http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum3264/print3340.html
- Васютин С. А. (2007) Основные этапы трансформации политических структур "дофеодальных варварских обществ" в эпоху Великого переселения народов и раннее средневековье, Средние века, 68 (4) 34-65
- Глебов А. Г. (2000) Король и власть: политические идеи Альфреда Великого, Исторические записки. Электронный периодический журнал исторического факультета Воронежского государственного университета, 1: http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/01-01.htm
- Глебов А. Г. (2008) О некоторых особенностях раннесредневековой государственности в Западной Европе, Власть, общество, индивид в средневековой Европе (Москва) 11-19
- Данилова Г. М. (1969) Аламаннское и баварское общество VIII и начала IX веков (Петрозаводск)
- Древние германцы (сборник документов). Сост. Б. Н. Граков, С. П. Моравский, А. И. Неусыхин (Москва, 1937)
- Духовской М. В. (1873) Понятие клеветы, как преступления против чести частных лиц, по русскому праву (Ярославь)
- Есипов В. В. (1903) Преступление и наказание в древнем праве (Варшава)
- Есипов В. В. Германцы. Очерки их «правовой» и общественной жизни. Электронная публикация в справочной правовой системе Гарант (Платформа F1 Эксперт)
- Иванишев Н. Д. (1840) О плате за убийство в древнем русском и других славянских законодательствах в сравнении с германскою вирою (Киев)
- Из ранней истории шведского народа и государства. Первые описания и законы (Москва, 1999)
- Карнейро Р. (2000) Процесс или стадии: ложная дихотомия в исследовании истории возникновения государства//Альтернативные пути к цивилизации (Москва) 84-94
- Ковалевский С. Д. (1977) Образование классового общества и государства в Швеции (Москва)
- Марей А. В. (2005) Обязательства ex delicto в «Семи Партидах» Альфонсо X Мудрого. Автореферат диссертации кандидата юридических наук (Москва)
- Нагих С. И. (2000) Нормативная система догосударственного общества и переход к государству, Юридическая антропология. Закон и жизнь (Москва) 32-45
- Санников С. В. (2009) Порядок рассмотрения дел о преступлениях против королев-ской власти в германских варварских королевствах VI-IX вв. н. э., Исторический ежегодник-2009 (Новосибирск) 47-56
- Санников С. В. (2010) К вопросу о становлении раннего государства (на примере раннесредневековой Европы), Традиционные общества: неизвестное прошлое. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 5-6 апреля 2010 года (Челябинск) 175-181
- Хатунов С. Ю. (2003) Уголовное право феодальной Англии, Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия Гуманитарные науки (Ставрополь), т. 10: science.ncstu.ru/articles/hs/10/49.pdf
- Шервуд Е. А. (1992) Законы лангобардов: Обычное право древнегерманского племени. К раннему этногенезу итальянцев (Москва)
- Attenborough F. L., ed. (1922) The Laws of the Earliest English Kings (Cambridge)
- Bar C. L. (1916, 19992) A History of Continental Criminal Law (Boston)
- Bellamy J. G. (1970) The Law of Treason in England in the Later Middle Ages (Cambridge)
- Bosworth J., Toller T. N. (1838) An Anglo-Saxon dictionary (London)
- Bosworth J., Toller T. N. (1898) An Anglo-Saxon dictionary, based on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth (Oxford)
- Grimm J. (1881) Deutsche Rechtsalterthumer (Gottingen)
- Lea H. C. (1870) Superstition and Force: Torture, Ordeal, and Trial by Combat in Medieval Law (London)
- Lear F. S. (1950) Treason and Related Offenses in the Anglo-Saxon Dooms (Houston) Преступления против королевской власти 100
- Lear F. S. (1965) Treason in Roman and Germanic Law: Collected Papers (Houston)
- Liebermann F. (1903-1915) Die Gesetze der Angelsachsen (Halle)
- Oberg K. (1955) Types of Social Structure Among the Lowland Tribes of South and Central America, American Anthropologist 57, 472-487
- Osenbruggen E. (1860) Das alemannische Strafrecht im deutschen Mittelalter (Schaffhausen)
- Osenbruggen E. (1863) Das Strafrecht der Langobarden (Schaffhausen)
- Pollock F., Maitland F. W. (1898, 19962) The history of English law before the time of Edward I, vols. 1-2 (Cambridge, New Jersey)
- Robertson A. J., ed. (1925) The Laws of the Kings from Edmund to Henry I (Cambridge)
- Velazquez I. (2003) Pro patriae gentisque Gothorum statu, Regna and Gentes: The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World (Leiden/Boston/Koln) 161-218
- Wilda W. E. (1842) Das Strafrecht der Germanen (Halle)