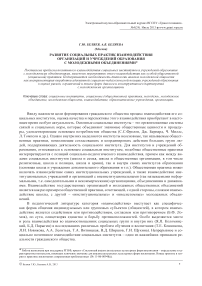Развитие социальных практик взаимодействия организаций и учреждений образования с молодежными объединениями
Автор: Беляев Геннадий Юрьевич, Беляева Алла Владимировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Воспитание в условиях перехода к ФГОС общего образования: новации и преемственность
Статья в выпуске: 4 (24), 2013 года.
Бесплатный доступ
Поставлена проблема позитивного взаимодействия социальных институтов и учреждений образования с молодежными объединениями, намечены перспективы этого взаимодействия как особой общественной (социальной) практики. Подчеркивается необходимость типологии анализа молодежной общности как инструментария выработки адекватной социально-педагогической позиции учреждений образования в оценке рисков, ограничений и поиске форм диалога и конструктивного партнерства с молодежными организациями.
Социальные институты, социальные (общественные) практики, молодежь, молодежное объединение, молодежная общность, взаимодействие, образовательные учреждения, организации
Короткий адрес: https://sciup.org/14821937
IDR: 14821937
Текст научной статьи Развитие социальных практик взаимодействия организаций и учреждений образования с молодежными объединениями
Ввиду важности цели формирования гражданского общества процесс взаимодействия его социальных институтов, оценка качества и перспективы этого взаимодействия приобретают в настоящее время особую актуальность. Основные социальные институты – это организованные системы связей и социальных норм, которые объединяют значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества (С.С.Фролов, Дж. Бернард, Ч. Миллс, Л. Томпсон и др.). Однако внутри них выделяются институты неосновные, так называемые общественные практики, позволяющие согласовывать и координировать действия больших групп людей, поддерживающих деятельность социального института. Для институтов и учреждений образования, относящихся к основным социальным институтам, подобные общественные практики интерпретируются с позиций социально-педагогического взаимодействия, причем как между видами социальных институтов (школа и семья, школа и общественные организации, в том числе религиозные, школа и полиция, школа и армия), так и внутри самих институтов образования (основная школа и учреждения дополнительного образования и т.п.). Общественная практика может включать взаимодействие самих институциональных учреждений, а также взаимодействие институциональных учреждений и организаций с внеинституциональными (так называемыми неформальными, т.е. самодеятельными и некоммерческими) организациями, объединениями и движениями. Взаимодействие государственных организаций и молодежных общественных объединений является как раз примером общественной практики, сочетающей, с одной стороны, сложное взаимодействие школы, с другой – «институциональных» и «внесистемных» молодежных объединений.
В педагогической литературе категория «взаимодействие» выступает как специфическая форма общения индивидуальных или групповых субъектов (общностей), в котором взаимодействие является содействием или противодействием, согласием или противоречием (Б.Ф. Ломов), по сути, олицетворяя единство и борьбу противоположностей. Особо выделяются место и роль взаимодействия во взаимоотношениях социальных групп и внутри них (Я.JI. Коломинс-кий, Б.Д. Парыгин) в исследованиях различных проблем обучения и воспитания (Т.Е. Конникова, JI.И. Новикова, А.А. Леонтьев, T.А. Витвицкая, В.Д. Ширшов, Г.И. Щукина). Непрерывное и социально позитивное взаимодействие социальных институтов – один из важнейших признаков реальности гражданского общества.
В рамках социального воспитания* как особого направления общей теории воспитания в дальнейшем научно-педагогическом осмыслении нуждается новый социально-педагогический феномен – фактическая полисубъектность процессов социализации и воспитания, форм и способов взаимодействия традиционных и новых субъектов социально-педагогической реальности. Процесс взаимодействия институтов образования с детскими общностями выдвигается, таким образом, на первый план современных проблем теории воспитания. Учитывая возрастающее влияние разнообразных неформальных организаций на общественную жизнь, на пространство образования и его институты, выявление социально-педагогических условий такого взаимодействия представляется целью, имеющей большую актуальность для определения перспективы развития не только системы образования, но и всех остальных (без исключения) социальных институтов развивающегося гражданского общества.
Современное общество – это многоуровневое полусубъектное пространство социального взаимодействия, которое проявляется в отношениях антагонизма (противоборства), конкуренции (состязания), диалога (переговорные площадки), (социального/социально-педагогического) партнерства и сотрудничества . По отношению к базовым институтам социализации сегодня является фактом существование двух типов молодежных объединений:
-
1) институциональных (созданных при инициативе и поддержке государственных и ведомственных структур, а также при юридически зарегистрированных политических партиях и общественных объединениях, т.е. легализованных в рамках системы);
-
2) внеинституциональных, внесистемных, так называемых самодеятельных или неформальных, которые формируются под воздействием различных социокультурных и субкультурных стереотипов, но на основе самодостаточно осознанных интересов и потребностей подростков и молодежи и под влиянием внесистемных общественных объединений, юридическими лицами не являющихся.
В новых социально-экономических условиях развитие эффективного социально-позитивного взаимодействия с молодежными объединениями именно как вида общественной практики является важной, но пока еще конструктивно нерешенной проблемой современных учреждений основного общего и дополнительного, а также и высшего образования. Современное взаимодействие государственных и общественных институтов воспитания и молодежных объединений уже не может строиться по тем же правилам, которыми руководствовалась достаточно обширная и многоуровневая система воспитания в советское время. Система социально-воспитательного взаимодействия строилась и функционировала при господстве единой государственно-политической идеологии и в условиях более-менее формального (в годы последних пятилеток) или подлинного (в Великую Отечественную войну) морально-политического единства общества.
Возможно ли вообще общественное воспитание в условиях общества, утратившего моральнополитическое единство прежней эпохи, в условиях государства, социального только де-юре, по Конституции? В настоящее время не объединенные ни идейно, ни организационно, имеющие различные источники финансирования воспитательной деятельности субъекты воспитания не связаны ни взаимными обязательствами, ни законом относительно понимания целей и содержания воспитания детей, совокупности дозволенных средств, параметров формируемой личности, путей создания условий для самовоспитания ребенка. Нередко они преследуют противоположные воспитательные цели.
Тем не менее такое взаимодействие возможно, более того – необходимо. Следует выяснять не мнимые, но реальные социально-педагогические условия взаимодействия учреждений образования, их отношений с другими общественными институтами (в первую очередь, с институтом семьи в его современном состоянии), с политическими партиями, общественными и детскими организациями. Это позволит уточнить и конкретизировать риски и ограничения в средствах и способах такого взаимодействия, сформировать наиболее полное представление о причинах и последствиях возникновения проблем и кризисных явлений во взаимодействии субъектов образования и молодежных объединений, наметить наиболее эффективные направления, способы и методы минимизации рисков и поиска точек пересечения интересов и социально-воспитательных потенциалов [2; 4; 10].
Взаимодействие может носить как позитивный, так и негативный характер, и если научным исследованием доказано, что взаимодействие носит характер негативный, то это тоже является фактом большого социально-педагогического значения, указывает на риски, ограничения, допуски и прогноз аналогичного взаимодействия. Любой кризис сопровождает взаимодействие, являясь его следствием, результатом и новой фазой. Феномен взаимодействия и его характер могут быть выявлены путем выявления и изучения условий и показателей его протекания. К примеру, роль взрослого в детской общности может быть индикатором социально-педагогических условий взаимодействия какого-либо учреждения образования с молодежным объединением. Выявление этой роли, ее характера и «социального» качества дает возможность более адекватно оценить и воспитательный потенциал такого объединения, и важные условия его взаимодействия с окружающим социумом.
По социальному критерию все молодежные объединения делятся на просоциальные (как институциональные, так и неформальные) и диссоциальные (только неформальные). Условное деление детско-молодежных групп, объединений и движений на «формалов» и «неформалов» вполне устоялось в социально-педагогическом обиходе еще с середины 1980-х гг., и его допустимо ввести в научно-практический контекст. Неформалы во главе с неформальными лидерами – коллективные субъекты стихийной социализации подростков и молодежи. Не каждое молодежное объединение, но многие из них, функционирующие как общности неформальные, являются общностями субкультурными и стремятся стать активным субъектом культурного или контркультурного воспитания своих сочленов. Далеко не все неформальные детские общности могут быть связаны непосредственно с субкультурами, но все субкультуры принимают форму неформальных субкультурных детских, детско-взрослых и молодежных общностей.
К настоящему времени выполнены многочисленные исследования отношений и ценностей молодежи в сфере определения своей идентичности, самоопределения в пространстве культуры и контркультуры, в том числе в сферах общественной жизни, идеологии, политики, религии, искусства, проанализирован опыт наиболее интересных и важных общественных практик взаимодействия с молодежными объединениями не только в сфере собственно основного и дополнительного образования, но с внесистемными, неформальными молодежными объединениями и движениями (Л.В. Алиева, И.А. Алехин, С.А. Беличева, С.К. Бондырева, Н.Н. Бушмарина, В.Г. Донской, С.В. Егорышева, С.Г. Косарецкий, В.Н. Кочергин, М. Кордонский, Н.И. Кузнецова, М.Е. Кульпединова, Д.Н. Лебедев, В.Ф. Левичева, А.В. Мудрик, К.Ю. Мяло, Е.Н. Омельченко, В.С. Собкин, О.Ю. Сорачайкина, Д.И. Фельдштейн, И.И. Фришман, М.В. Шакурова и др). Обосновано мнение о том, что молодежные объединения становятся весомыми субъектами современных процессов социализации.
Подростки и юноши, входящие в любое молодежное объединение, – наши дети, все будущие и становящиеся полноправные граждане нашего общества, нашего социума, граждане России. Педагогика не может обойти стороной ни факт массового функционирования таких общностей, ни вопрос их ценностно-целевых ориентиров. Подростков «тянет» в неформалы то, чего они не получают ни в семье, ни в школе, ни в официально зарегистрированных детских и юношеских учреждениях и в ДОО. Воспитание идет в таких общностях полным ходом, без ведома родителей и педагогов, воспитание с разными целями и ценностями. Именно поэтому в качестве антитезы собственно социальному (просоциально- му) воспитанию уместен термин А.В. Мудрика диссоциальное воспитание – воспитание в социальных общностях, социальность которых идет вразрез с общепринятой, противореча нормам традиционной культуры и морали, но формально еще не переходящей границ принятого в обществе уголовного законодательства. При известной девальвации авторитета старшего поколения происходит усиление так называемой конфигуративности социализации молодежи, когда относительная самоизоляция младшего поколения от старшего достигает критической черты «разрыва поколений». Новое поколение начинает воспринимать как эталоны идеалы молодежной культуры и контркультуры, перенимая правила и нормы социально-духовного опыта у своих же сверстников, но не у родителей. Для оценки возможностей стабильного развития системы образования, потенциальных ограничений, рисков и угроз безопасности образовательного пространства в настоящее время важна адекватная оценка явных и скрытых целей формирования молодежных общностей как объектов целенаправленного влияния заинтересованных групп. Необходимо непредвзятое, социально ответственное осознание практическими руководителями образовательных учреждений социализирующего и воспитательного потенциала этих групп и объединений, возможностей и рисков социально-педагогических контактов с ними [8].
Мы утверждаем, что процесс социального или диссоциального воспитания внутри молодежных объединений имеет существенное значение для их позиционирования в обществе. Значительная часть неформальных детских и молодежных общностей обладает как общим социализирующим, так и собственно воспитательным потенциалом, имеющим непосредственные выходы на становление мировоззренческой и гражданской позиции формирующейся личности школьника, его готовность к дальнейшему развитию, на его предпрофессиональную ориентацию и начальную профессиональную подготовку.
Может быть, ограничить поле исследования только просоциальными общностями? Но тогда как понять, в каком смысле они просоциальны или нет, на каком социокультурном фоне? Тогда ведь не будет вывода, который мы хотим сделать, анализируя то, насколько существующие средства и методы исследования адекватны сущности и содержанию проблемы выявления воспитательного потенциала этих общностей. Необходимо понять внутренние механизмы и цели их взаимодействия, выявить их социальный или диссоциальный потенциал, риски и ограничения и, наоборот, возможности социального партнерства с ними, может быть, продуктивного и полезного во всех смыслах диалога. Понять, как именно взращивается человек в молодежных – как бы стихийно, а на самом деле с помощью где-то закономерно созданных организаций неформального и привлекательного для молодежи плана. Субъектами здесь выступают старшие референтные, авторитетные лица, тоже, как правило, не выходящие за возрастные границы молодежного порога, но обладающие всеми правами своеобразного наследования, трансляции культурной или контркультурной традиции данной конкретной общности – группировки, организации, партии, объединения, движения.
Чтобы тщательно проанализировать возможности развития продуктивного взаимодействия учреждений образования с молодежными объединениями, саму типологию молодежных объединений можно развернуть на базе исходного их позиционирования, самоидентификации, существования и развития в культуре и в контркультуре. В связи с этим для определения круга задач взаимодействия с неформальными молодежными объединениями их типология должна охватывать группы, организации, объединения, движения как с просоциальной доминантой, так и с дисссоциальными структурами отношений, общения, деятельности, т.е. с диссоциальным типом социализации. Типология, являющаяся своеобразным инструментарием анализа общественной практики взаимодействия учреждений образования с молодежным объединением, призвана выявлять характер связей и отношений субкультурных молодежных сообществ, также являющихся неформальными и функционирующими и в культуре, и в контркультуре современного социума. Примером просоциальных неформальных молодежных общностей сегодня служит, например, общность волонтеров – это молодежное движение, именно неформальное, включающее в себя и старшеклассников, и студентов, и работающую молодежь. Примером диссоциальных молодежных общностей, функционирующих в контркультуре, могут быть панки.
В рамках феноменологического подхода и в соответствии с теоретическими положениями Концепции полисубъектности воспитания Центра теории воспитания Института теории и истории педагогики Российской академии образования (2009) мы делаем акцент на ценностной специфике конкретной субкультурной молодежной общности. При характеристике типа и вида неформальной детской общности по различным основаниям и компонентам можно типологизировать общности по признаку единства уклада, социального опыта, формируемого как определенная ценностно-векторная, аксиологическая перспектива.
В 2008 г. была проведена масштабная междисциплинарная Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежная субкультура», организованная и проведенная Российской Академией образования, Академией педагогических и социальных наук, Самарским государственным педагогическим университетом и Московским психолого-социальным институтом. Она привлекла внимание ученых России и стран ближайшего зарубежья в области психологии, педагогики, социальной работы, культурологии, права, преподавателей, представителей административных органов и общественных объединений, вузовской молодежи [1].
Выводы конференции были сформулированы следующим образом. В настоящее время практически отсутствует системное исследование проблем молодежной субкультуры, в результате чего нет и комплексного представления о молодежи и ее роли в современном российском обществе. В то же время этот социальный феномен может стать предметом такого комплексного исследования, а его результаты – единственно реальной основой для разработки последовательной государственной молодежной политики. Отсюда вытекает актуальность проблемы социально-педагогического взаимодействия с детскими и молодежными общностями, которые появляются стихийно, в ответ на возникающие потребности, вне рамок институциональных государственных учреждений*.
Педагогическому сообществу, ученым, связанным с практикой, сегодня важно понять процессы, протекающие в подростковой и молодежной среде, определить специфику педагогических средств, необходимых для преодоления кризиса доверия учащейся молодежи к традиционным сферам, формам и нормам воспитания и дополнительного образования подростков. Исследования детской общности не только указывают на цели и ценностные приоритеты, но и выявляют риски и вызовы в сфере социализации и воспитания, связанные с фактом «разрастания» определенных категорий субкультурных общественных практик, обладающих диссоциальным, антиобщественным потенциалом. Возникает целый спектр вопросов. Как быть школе, а теперь уже «образовательному холдингу» из комплекса школ микрорайона? Каковы ответы педагогической науки и практики на эти вызовы? Каковы культурные формы этой практики? С какими из современных молодежных объединений по пути и школе, и учреждениям дополнительного образования? С какими объединениями контакт возможен, а с какими – нежелателен и почему? Нужен ли диалог? Продуктивен ли спор? Эффективны ли переговорные площадки? Нормально ли все спорные вопросы решать силовыми методами МВД? Состоятельна ли идея социального партнерства с неформалами определенных направлений, политических взглядов, предпочтений жизнедеятельности?
Мы исходим из положения о том, что общность – это термин, описывающий и организацию, и объединение, и движение. Мы считаем, что в настоящее время подход к изучению и анализу любой молодежной общности как объекта и субъекта воспитания с позиций социальной феноменологии для педагогов наиболее продуктивен [9; 10]. Он позволяет увидеть содержание социальновоспитательного потенциала, а также адекватно оценить его культурный или контркультурный контекст. Феноменологический взгляд на молодежную общность как новый субъект воспитания дает возможность проанализировать роль взрослого в детско-взрослой общности не только с социологических, но и с собственно педагогических позиций. Известно, что ценности и цели молодежной общности, особенно неформальной, передаются вполне целенаправленно. Эта целенаправленность усиливается по нарастающей – неструктурированное открытое движение (например, фанатов «Спартака», байкеров, диггеров) воспитывает своих приверженцев еще более всеохватно, тотально, чем организация или даже объединение. Даже если общность и не ставит прямо задачи воспитания, все равно она выступает по факту своей деятельности субъектом такого воспитания (будь то объединение любителей аниме, движение волонтеров или футбольная лига фанатов). Практически все молодежные объединения, осознают они этот факт или нет, выступают как коллективные субъекты воспитания, их цементируют традиции и стиль жизни, мировоззренческие идеалы и стереотипы поведения, по которым они и опознаются. Это имеет прямое отношение к теории воспитания, к функционированию и сложному, неоднозначному взаимодействию социальных институтов воспитания, институциональных учреждений образования и разнообразного множества неформальных, внеинституциональных общностей, где так или иначе проявляется воспитание социальное.
Во взаимодействии с различными детско-молодежными и детско-взрослыми неформальными общностями – организациями, движениями, объединениями – есть, безусловно, свои ограничения и риски [10; 11]:
-
1) правовые – соблюдение конституционных норм, норм гражданского права при определении содержания и форм взаимодействия образовательных структур с молодежными организациями;
-
2) мировоззренческие – разноплановость ценностно-целевых установок педагогов и членов неформальных детских групп;
-
3) управленческие – невозможность применения привычной ведомственной логики, практики администрирования к логике взаимодействия с неформальными детскими общностями;
-
4) культурные – особенности взаимодействия в пределах российского уклада и духовно-нравственных традиций народов и народностей России;
-
5) риск возникновения недоверия и недовольства со стороны тех подростковых лидеров, которые почувствуют свою вторичность, ангажированность со стороны взрослых, которым, грубо говоря, «укажут на их место» в той или иной нарисованной взрослыми манипуляторами картине детского и юношеского движения.
Анализ тенденций развития характеристик, установок, ценностей, типологически общих для любого просоциально ориентированного молодежного объединения, позволит кураторам общественной практики взаимодействия выявить более точно, более объективно как общий социализирующий, так и собственно воспитательный потенциал именно данного молодежного объединения и подсказать наиболее адекватную стратегию и тактику диалога, который может со временем перерасти в сотрудничество и даже, не исключено, в социальное партнерство в микрорайоне и на региональном уровне.
Молодежные объединения нормативно-социализирующего плана
Для анализа социально-педагогической реальности актуальны определенные позитивно-просоци-альные основания, которые могут быть использованы в ходе выработки конкретных механизмов социально-педагогического партнерства с активными представителями целого ряда неформальных общностей подростков и молодежи, причем именно как с активными субъектами социально-педагогического взаимодействия со школой, семьей, общественно-государственными структурами. К ним относятся:
-
– активная жизненная позиция, инициативность;
-
– активный поиск новых смыслов жизни, попытки связать свое участие в общности с будущей профессиональной карьерой;
-
– ориентация на деятельность социального и культурного плана;
-
– общие организационно-деловые умения и навыки, деловые качества организатора и пропагандиста (именно на эти качества опирался в своей работе по перевоспитанию колонистов А.С. Макаренко –
пример судьбы А. Карабанова, организация отрядов, системы их руководства звеньями и бригадами, ответственности за порученное дело и пр.);
-
– специальные организационно-деловые умения и навыки, умение и желание работать в малых группах;
– стремление к рефлексии, осознанию смыслов собственной деятельности, поведения, общения.
Молодежные объединения просоциально-субкультурного плана
При всей противоречивой разноплановости мировоззренческих, социально-нравственных, политико-идеологических, культурных, этических, эстетических установок, оснований деятельности и стереотипов поведения детские и молодежные общности отличаются определенным набором некоторых общих, типических норм и ценностей, которые и позволяют говорить о неформальной детской общности как о реальном субъекте социально-педагогической реальности. Для выяснения основных характеристик современных детских общностей неформального толка, выявления характерных особенностей их просоциального потенциала имеются следующие основания. Каждому субкультурному молодежному объединению свойственны такие инвариантные черты, как:
– конфигуративность , преимущественная передача жизненного, социального, культурного, идеологического и духовного опыта от сверстников к сверстникам;
– избирательность социальных контактов, тенденция закрытости, замкнутости группы как социальной структуры и как организации, тяготеющей к формализации, к установлению иерархии, субординации, жесткой соподчиненности членов группы с выделением «внутреннего круга» особо посвященных, искушенных в традициях группы, ветеранов, «дедов», контрастирующих по своим правам и обязанностям, потребностям и возможностям их удовлетворения с «молодняком», новичками, с только что принятыми в группу и еще не прошедшими всех обрядов инициации, посвящения, своеобразного «ученичества» и «начетничества»;
– амбивалентность поведения , т.е. его социальная двойственность, ситуация «внешнего» и «внутреннего» социально значимого для индивида фона деятельности, сознания, поведения с умолчанием достаточно существенных сторон персональной мотивации поступков, которые могут быть вполне откровенно изложены только для лиц, считающихся в близком кругу общения своими, референтными, авторитетами (как правило, родители и учителя к такому кругу референтных лиц не относятся именно для подростков и молодых людей, втянувшихся в деятельность субкультурной общности; общность как новая семья как бы берет на себя эти социальные функции (в этом плане любопытна социальнопедагогическая эволюция колоний-коммун А.С. Макаренко: важен опыт конструирования социальнопедагогической реальности, преодолевающий подобную субкультурную амбивалентность, поскольку на ранних этапах своего существования именно эта черта поведения колонистов первоначально доминировала));
-
– повышенная активность времяпровождения , наполненность личного времени члена субкультурной общности делами, считающимися в данной группе обязательными к неукоснительному и точному исполнению;
-
– интенсивная вовлеченность подростка в нормативно-ценностный стиль отношений неформальной детской общности к себе самому, «своим» и «чужим», миру, людям, природе, к обществу и государству, позиционируемый как «преданность» своей группе, ее ценностям и целям деятельности;
-
– способность бескорыстно служить интересам группы , умение и навык привлекать новых сторонников в неформальную группу; желание и умение пропагандировать идеи, ценности, социальные нормы и стереотипы поведения, принятые группой за моральный образец, эталон, идеал;
-
– активный поиск новых смыслов жизни в границах субкультурного пространства отношений членов данного молодежного объединения.
Активно используются такие формы деятельности, как слеты, косплеи (costume plays), сборы, летние лагеря, конвенты, походы, автостоп. Идея мобильности выступает ключевым средством со- циализации подростка, входящего в любую из этих общностей. Таким образом, практически каждое субкультурное молодежное объединение обладает опосредованным, «свернутым», имплицитно присущим воспитательным потенциалом воздействия на индивидов, составляющих эту общность, причем специфические ритуалы поведения и характерные речевые черты (сленг группы) составляют ее отличительные особенности и вместе с тем являются инвариантом, указывающим на субкультурность молодежной общности как важный социальный признак.
Способностью и готовностью к взаимодействию с другими социальными субъектами и институтами в целях решения задач социализации и воспитания подростков и молодежи потенциально обладают молодежные объединения, социально развернутые и адаптированные в плане конкретики социальных действий. К ним, например, относятся движение волонтеров (против сбыта и потребления наркотиков, социальная помощь старикам и инвалидам, социально нуждающимся, погорельцам, беженцам и др.); клубы военно-исторической реконструкции, так называемые ролевики , опосредованно связанные с частью художественной и инженерной интеллигенции, «театровики» – игровики вроде объединений толкиенистов и любителей аниме с программами воспитательной работы и уставами объединений; движения спортивно-краеведческой направленности (городская субкультурная общность диггеров ); объединения, связанные сетевым взаимодействием ( геймеры, киберспорт ) и др. Контакты между неформальными лидерами таких общностей и руководителями официальных, общественно-государственных детских общественных объединений пока носят спорадический характер (отдельные вполне удачные попытки взаимодействия наблюдаются, как правило, на региональном уровне). Однако потенциал этих контактов растет, и этот (пока еще стихийный) процесс требует и дальнейшего научно-педагогического осмысления и применения в сфере общественного воспитания.
Выступая на заседании Краевой Думы во время подведения итогов нормализации чрезвычайной ситуации, сложившейся на Кубани в связи с аномально жарким летом 2010 г., губернатор Краснодарского края А.Н. Ткачев выделил неформальные молодежные инициативы движения волонтеров Кубани как исключительно ценные, полезные, практически действенные при оказании реальной помощи социально нуждающимся людям: инвалидам, детям, лицам старшего возраста. Это произошло, может быть, впервые за всю историю развития российского общества с начала 1990-х гг. На фоне многих «эгоистических» молодежных движений волонтеры действительно заняты реальной, осязаемой, действенной помощью людям. Их идея социальна – это практическое служение обществу, пусть и малыми, но конкретными делами, направлена на улучшение жизни и самочувствия людей, их физического и нравственного здоровья. Молодежное движение волонтеров стало заметным явлением общественной жизни России конца 2000-х гг. Наиболее полно волонтерские объединения представлены в Москве и Санкт-Петербурге. Активно развивается молодежное добровольчество в Красноярске и в Краснодарском крае, на Кубани. В 2009–2010 гг. в той или иной форме волонтерским движением были охвачены такие города, как Барнаул, Белгород, Владивосток, Вологда, Воронеж, Красноярск, Липецк, Москва, Мурманск, Пермь, Петербург, Самара, Уфа, Ярославль. Этим новым явлением отмечен был Год Молодежи в Российской Федерации – 2009-й. В целом можно говорить о том, что морально-нравственный потенциал волонтерского движения сегодня – это приток молодой «свежей крови» в социально-педагогические формы работы с детьми, подростками, учащейся молодежью. Этот вывод следует даже из появления отдельных, но чрезвычайно ярких «проростков» молодежного менталитета, обновляющих саму традицию социализации и воспитания.
Взаимодействие образовательных организаций с движением неформалов-поисковиков состоит в подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил и в органах МВД, в пропаганде культа спорта и здорового образа жизни. Такой культ должен быть всецело возрожден в нашем обществе, причем очищен от всех социально подозрительных и криминогенных примесей. В этом деле возрождения спорта и спортивных обществ есть несомненные успехи, но пока еще слабовата роль массового педагога. Без участия школы органам правопорядка не возродить систему ДОСААФ и ГТО. Скажем более того, не возродить и без участия новых неформальных организаций и объединений молодежи – они та- кие же будущие граждане России, как и остальные школьники. И им вскоре предстоит служить в рядах Вооруженных Сил, МЧС или МВД.
Чрезвычайно перспективно взаимодействие с объединениями дайверов (любителей подводного плавания), диггеров (исследователей пещер и городских подземных коммуникаций), клайдеров (любителей экстремального городского альпинизма) и т.п. Социально ценно использование потенциала взрослых военно-спортивных клубов [3], спортивно-туристских обществ с подключением энергии молодых к воспитанию профессиональных качеств, необходимых в Службе Спасения и подобных серьезных и остроактуальных профессиональных сообществах.
Мотивом социально-педагогического взаимодействия с неформалами может служить конкретное общее, разновозрастное, общественно-полезное дело при четком распределении обязанностей (например, социальная помощь инвалидам и ветеранам труда микрорайона, очистка территории парка от мусора, высадка деревьев и кустарника, снегозадержание на полях, ремонт дамбы, добровольная народная дружина, патрулирование территории, организация и художественное оформление праздничного мероприятия для жителей округа, проведение вечера отдыха и молодежной дискотеки и т.д., что с успехом практикуется в Западной Европе). Практика показывает, что в таком случае подростки среднего и старшего возраста хорошо работают и учатся и без взрослых кураторов-опекунов, полагаясь именно на авторитетных сверстников [2; 4–6]. Другими словами, принцип конфигуративности, отмечаемый многими психологами как некий социокультурный тормоз, может при смене угла оценки привычных методов диалога с подростками работать как принципиально новый и эффективный механизм самоорганизации их общности. Вопреки многим устоявшимся мифам взрослых «знатоков» подростковой психологии, подростки и молодые люди любят не нарушать, а соблюдать разумно установленные правила и тем более выполнять взятые на себя обязательства. Неписаный кодекс чести является сильнейшим регулятором деятельности как «формальных», так и, возможно, еще в более выраженной мере, «неформальных» просоциальных детских и детских и молодежных общностей. Мотивы сплоченности, нацеленности на победу, гордость причастности своей группе являются сильнейшими педагогическими факторами воспитания активной жизненной позиции, проверенной и доказанной на практике в образовательных системах и культурных формах воспитания Англии, Японии, США, Германии, а сегодня – практически во всех цивилизованных социокультурных практиках мира, где роль инициации подростков чрезвычайно велика. Чрезвычайно большой и значимой она всегда была и в отечественной традиции воспитания (ставка на общину и коллектив) и от этого опыта использования особенностей национальной ментальности нельзя отказываться. Именно на таких организационно-деловых принципах формируются ученические производственные бригады, спортивные сообщества и клубы юных туристов и иные формы просоциальных детских объединений на временной или постоянной основе. Именно на таких организационных началах закладываются формы освоения социального опыта в рамках вторичной социализации подростков, и именно в них можно не только разглядеть, но и использовать на благо общества социокультурный феномен обратного влияния подростка на детскую общность и на детско-взрослые общности своего ближайшего социального окружения.
Мероприятия по охране общественного порядка на локальном уровне микрорайонного социального окружения вполне могут быть проводимы в условиях доброжелательного контакта с целым рядом местных неформальных молодежных объединений или даже при их непосредственном содействии. Безусловно, полезно взаимодействие – причем даже на уровне социального партнерства – с неформальными молодежными объединениями природоохранной, экологической направленности (лесотехнические мероприятия, мониторинг состояния природоохранных зон, реорганизация биологических станций и орнитологических секций школ, училищ, лицеев, высших учебных заведений, экологический туризм и т.п.).
Вполне плодотворны переговорные площадки [6; 7] по тематике поиска и реализации форм взаимодействия неформалов с учреждениями культуры, музеев, театров (здесь есть что вспомнить из опыта молодежного авангарда 1920-х гг. – лефовцев-футуристов, театров-студий и т.д. в процессе организации практики самореализации молодежи: сегодня эту практику способны реализовать игровики-роле-вики, аниме-общности, секции и клубы исторической реконструкции и др.).
Проведенный нами анализ показывает, что при определенных социально-педагогических условиях неформальные молодежные общности можно и нужно задействовать в конструктивном диалоге и социальном партнерстве различных социокультурных институтов нашего общества, нацеленном на «образ здорового будущего» нашей страны. Взаимоизоляция социальных субъектов еще никому, никогда и нигде не приносила пользы. Качество социально-педагогического взаимодействия учреждений образования с детско-взрослыми и молодежными общностями просоциальных неформальных объединений, на наш взгляд, сегодня и перспективная задача педагогической науки, и насущная проблема образования в сложном и противоречивом процессе модернизации многоукладного и полиэтнического российского общества.
Список литературы Развитие социальных практик взаимодействия организаций и учреждений образования с молодежными объединениями
- Актуальные проблемы молодежной субкультуры: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. «Молодежная субкультура (актуальные проблемы)» (г. Самара, 23-24 окт. 2008 г.)/под общей ред. О.В. Красновой. М.: НОУ ВПО МПСИ, 2009. Т. 2
- Алиева Л.В. Детское общественное объединение в системе социального воспитания детей и юношества: учеб.-метод. пособие. М., 2007
- Беличева С.А. Специализированные подростковые клубы как институт ресоциализации «трудных» подростков//Психол. журн. 1984. Т. 5. №6. С. 48-54
- Беляева А.В. Типы школ по критерию формирования доминанты здорового образа жизни//Воспитание успешно, если оно системно: материалы I Всерос. пед. чтений памяти акад. Л.И. Новиковой (с междунар. участием)/под ред. А.В. Гаврилина, Н.Л. Селивановой, И.Н. Поповой. Владимир -М., 2006. С. 53-56
- Демакова И.Д. Пространство детства: проблемы гуманизации. Ижевск, 1999
- Кордонский М., Ланцберг В. Технология группы: заметки из области социальной психологии нефоpмальных гpyпп. 4-е изд., испp. и доп. Одесса -Тyапсе, 1995
- Косарецкая С.В. Неформальные объединения молодежи: профилактика асоциального поведения: учеб.-метод. пособие/С.Г. Косарецкий, Н.Ю. Синягина. СПб.: КАРО, 2006
- Мудрик А.В. Что такое воспитание?//Директор школы. 2002. № 10. С. 8-11
- Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: МПСИ: Воронеж: МОДЭК, 2010
- Селиванова Н.Л. Легко ли быть гуманистом? URL: www.vospitanieitip.narod.ru
- Степанов П.В. Патриотическое воспитание в современной школе: цели, формы, ограничения? URL: www.vospitanieitip.narod.ru