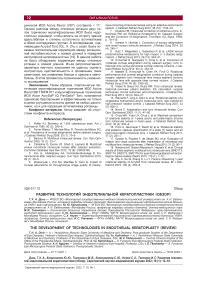Развитие технологий эндотелиальной кератопластики (обзор)
Автор: Динь Т.Х.А., Калинников Ю.Ю., Тихонович М.В., Калинникова С.Ю., Нгуен С.Х., Ткаченко И.С.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Офтальмология
Статья в выпуске: 1 т.18, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель: анализ технологий эндотелиальной кератопластики (ЭК), оценка преимуществ и недостатков каждого метода, включая преэндотелиальную кератопластику с десцеметорексисом (PDEK) в лечении различных заболеваний роговицы. В обзоре литературы анализируются опубликованные данные о современных методах ЭК. Для поиска статей использовали базу данных PubMed. Всего использовано 50 источников литературы, опубликованных в период с 1956 по 2020 г. Задняя автоматизированная послойная кератопластика (DSAEK) и трансплантация десцеметовой мембраны (DMEK) являются популярными методами лечения пациентов с патологией эндотелия роговицы, но имеют ряд недостатков, таких как: невысокая острота зрения в отдаленный послеоперационный период (DSAEK), возрастное ограничение доноров и трудность манипуляций с изолированной десцеметовой мембраной (DMEK). Учитывая изложенные недостатки, изучение альтернативных методов ЭК является актуальным. Одной из новейших технологий трансплантации роговичной ткани, позволяющей избежать вышеперечисленные проблемы, является PDEK.
Дистрофия фукса, преэндотелиальная кератопластика с десцеметорексисом (pdek), слой дуа, эндотелиальная кератопластика
Короткий адрес: https://sciup.org/149141120
IDR: 149141120 | УДК: 617.72
Текст научной статьи Развитие технологий эндотелиальной кератопластики (обзор)
-
1 Вв едение. Группа эндотелиальных дистрофий роговицы — это целый ряд заболеваний, при которых нарушается работа эндотелиального слоя роговицы, являющегося регулятором содержанием воды в строме. Эндотелиальные дистрофии клинически проявляются отеком роговицы и, как следствие, снижением остроты зрения на ранних стадиях заболевания, а на поздних стадиях — неоваскуляризацией роговицы с помутнением, что приводит к слабовиде-нию. Долгое время золотым стандартом в лечении эндотелиальной патологии являлась сквозная кератопластика (СКП), однако в современной офтальмологии разработаны различные методики задней послойной кератопластики (ЗПК) с селективной заменой пораженных слоев роговицы [1].
Цель — анализ технологий эндотелиальной кератопластики, оценка преимуществ и недостатков каждого метода, включая преэндотелиальную кератопластику с десцеметорексисом (PDEK) в лечении различных заболеваний роговицы.
В обзоре литературы анализируются опубликованные данные о современных методах эндотелиальной кератопластики. Для поиска статей использовали базу данных PubMed. Всего рассмотрены 50 источников литературы, изданные в период с 1956 по 2020 г.
Трансплантация роговицы, или кератопластика, является наиболее часто выполняемой, а также наиболее успешной аллогенной трансплантацией в мире. Первую замену непрозрачной роговицы человека трансплантатом из роговицы кролика осуществил A. V. Hippel в 1886 г. E. Zirm произвел первую успешную трансплантацию аллогенной роговицы в 1905 г. [1]. С тех пор научились выполнять не только замену всей толщи роговицы, но и отдельных пораженных ее слоев. Это стало возможным благодаря более глубокому пониманию анатомии роговицы, развитию хирургических методов, изобретению но-
вых офтальмологических инструментов и микроскопов.
Задняя послойная кератопластика используется для замены эндотелия и лечения состояний, при которых поражен только эндотелий, а остальная часть роговицы не затронута, например для лечения различных буллезных кератопатий.
Изначально хирурги попытались заменить заднюю часть роговицы через передний доступ, то есть вначале формировался клапан из передних слоев роговицы, затем его поднимали и производили трепанацию задних слоев роговицы, но эта методика не получила широкого распространения. В 1956 г. С. W. Tillet впервые использовал задний доступ к эндотелию реципиента. Он использовал лимбальный доступ шириной 12 мм, далее отсепаровывал задние слои роговицы с помощью расслаивателя, донорский материал фиксировался к сформированному ложу при помощи швов. Второй уровень швов накладывался в зоне лимба, фиксируя тем самым поверхностный лоскут роговицы реципиента [2]. Результат по зрению и приживаемость трансплантата были низкими, что объяснялось использованием мануальной техники расслаивания роговицы и применением швов. G. R. Melles с соавт. в 1998 г. предложили использовать вместо швов тампонаду воздухом для фиксации донорского трансплантата в глазу реципиента. Они использовали 8-миллиметровый лимбальный доступ, расслаивали роговицу реципиента на ½ ее толщины с помощью алмазного ножа, донорский трансплантат фиксировали путем введения пузыря воздуха в переднюю камеру, на лимбальный разрез накладывали швы [3]. В 2002 г. G. R. Melles с соавт. стали вводить сложенный в соотношении 60/40 донорский трансплантат через 5-миллиметровый склеральный тоннельный разрез [4]. Ту же методику использовали M.A. Terry и P. J. Ousley и назвали ее глубокой послойной эндотелиальной кератопластикой (DLEK) [5]. В 2003 г. G.R. Melles и соавт. дополнительно модифицировали свою технику, начав использовать десцеметорексис на роговице реципиента. Данная операция получила название Descemet’s stripping endothelial keratoplasty (DSEK) [6]. Данная методика значительно уменьшила риск травматизации радужной оболочки и структур передней камеры, а также позволяла сохранять целостность стромы реципиента, что обеспечивало получение более гладкого интерфейса и улучшило клинический результат операции. В 2006 г. DSEK стала автоматизированной эндотелиальной кератопластикой (Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty, DSAEK), когда M. Gorovoy использовал микрокератом для выкраивания донорского трансплантата [7]. Это облегчило процесс обучения, а интерфейс стал еще более гладким. Тогда же G. R. Melles и соавт. предложили очередной революционный подход в задней послойной кератопластике [8]. Они предложили технику замены больного эндотелия здоровым путем пересадки десцемет-эн-дотелиального комплекса (Descemet’s membrane endothelial keratoplasty, DMEK) уже без донорской стромы. Данная техника крайне трудна в исполнении, но дает превосходные результаты по восстановлению зрения. После открытия слоя Дуа A. Agarwal с соавт. в 2014 г. предложили использовать методику пересадки десцеметовой мембраны и эндотелия вместе с предесцеметовым слоем (pre-Descemet’s endothelial keratoplasty — PDEK) [9]. Данный комплекс тканей легче расправляется и фиксируется в передней камере. Две процедуры задней послойной кератопластики, а именно DSAEK и DMEK, стали стандартными методами лечения буллезных кератопатий. PDEK, являясь новой и малоизученной методикой, в настоящее время не имеет такого широкого распространения.
Эндотелиальная кератопластика выполняется минимально инвазивным способом, избегая ситуации «открытого нёба», более того, для сопоставления хирургических разрезов используются всего несколько швов или вообще обходятся без них. Важные преимущества задней послойной кератопластики перед СКП включают более быстрое восстановление зрения, снижение риска кровоизлияний и инфекций, послеоперационный астигматизм менее выражен, меньшая денервация роговицы, более стабильный результат, меньше частота прорастания сосудов и отторжения трансплантата.
Задняя автоматизированная послойная кератопластика (DSAEK). Донорский трансплантат для DSAEK может быть подготовлен для пересадки прямо во время проведения операции или же может быть заготовлен заранее в глазном банке [9]. При помощи микрокератома удаляется эпителий и передняя строма роговицы толщиной 300, 350 или 400 мкм. Трансплантаты, полученные с помощью микроке-ратома, и особенно ультратонкие трансплантаты дают более предсказуемую толщину трансплантата, а также более быструю зрительную реабилитацию. Из корнеосклерального диска с помощью трепанов 8, 8,5 или 9 мм выкраивают готовый трансплантат, который вводится в переднюю камеру через роговичный 5-миллиметровый разрез при помощи пинцета, глайда или инжектора [10]. Трансплантат фиксируется к роговице реципиента при помощи пузыря 20%-го газа SF6. Разрез и дополнительные парацентезы ги-дротируют или на них накладывают узловые швы.
Наиболее частым осложнением после операции DSAEK является частичная отслойка трансплантата. Однако частота встречаемости осложнений обратно пропорциональна опытности хирурга. В связи с тем что небольшие области отслойки трансплан- тата прилегают сами собой, то повторное введение газа требуется только для лечения выраженных или полных отслоек трансплантата [10]. Такие осложнения, как первичная или вторичная недостаточность трансплантата, его отторжение, зрачковый блок, повышенное внутриглазное давление и синдром Ур-ретс-Завалия, врастание эпителия, отслойка сетчатки, кистозный макулярный отек и кровоизлияния встречаются редко [11]. Выживаемость трансплантата после DSAEK, по-видимому, такая же хорошая, как и после СКП. Окончательный рефракционный результат после СКП становится понятен только после снятия всех роговичных швов, но после DSAEK происходит гораздо более быстрая зрительная реабилитация пациентов. При этом необходимо учитывать, что готовый трансплантат для DSAEK представляет собой лентикулу вогнутой формы с различной толщиной в центре и по периферии, поэтому присутствует послеоперационный гиперметропический сдвиг около 1,13 диоптрий [12] при DSAEK и около 0,78±0,59 диоптрий при ультратонком — DSAEK. J. Y. Li с соавт. в 2012 г. обнаружили, что процент пациентов, у которых максимально корригируемая острота зрения (МКОЗ) составляла 0,8, был равен 36,1% через 6 месяцев и 70,4% через 3 года после операции DSAEK. Процент же пациентов с корригируемой остротой зрения равной 1,0 был 11,1% через 6 месяцев и 47,2% через 3 года [13]. K. Wacker с со-авт. в 2016 г. опубликовали данные о том, что зрение у пациентов после DSEK постепенно улучшалось в течение пяти лет, так корригируемая острота зрения равная 0,8 через год после операции была у 26% пациентов, а через 5 лет — у 56% пациентов [14]. Эти исследования говорят о том, что улучшение зрения не имеет плато и предполагает непрерывный процесс ремоделирования ткани роговицы даже через пять лет после DSAEK. Однако стоит отметить, достижение максимальной корригированной остроты зрения равной 1,0 происходит после DSAEK нечасто. Одной из возможных причин этого является избыточная толщина донорской ткани. Строма, входящая в состав пересаживаемой лентикулы, искажает интерфейс границы «донор — реципиент», что увеличивает количество аберрации высокого порядка на 25% и ухудшает зрение пациентов [15]. Одним из существенных недостатков DSAEK по сравнению с СКП является относительно большая потеря эндотелиальных клеток в ходе подготовки трансплантата и выполнения операции. Потеря эндотелиальных клеток после DSAEK составляет около 32% в первый год после операции и примерно 7-9% каждый последующий год, что за пять лет в общем приводит к потере приблизительно 47-55% эндотелиальных клеток [14].
Для подготовки трансплантата для DSAEK также пробуют использовать фемтосекундный лазер; такой вид кератопластики получило название f-DSAEK. Однако в сравнении с микрокератомом лазер не дает преимуществ по гладкости получаемого среза, скорее наоборот. Для f-DSAEK-трансплантата характерна шероховатость из-за глубокой абляции ткани, приводящей к денатурации коллагена стромы. Это, в свою очередь, приводит к рассеиванию света на границе раздела. Было также показано, что после f-DSAEK развивается нерегулярный астигматизм задней поверхности роговицы, связанные с образованием складок трансплантата [16]. После f-DSAEK часто развивается хейз [17]. Все перечисленное приводит к тому, что зрительные функции после f-DSAEK хуже по сравнению с DSAEK. f-DSAEK по-прежнему нуждается в дальнейшем техническом усовершенствовании, прежде чем он получит широкое применение.
Иммунный ответ на пересаженные эндотелиальные клетки гораздо меньше выражен, чем на пересадку всей роговицы. Исследования показали, что в течение первых 2 лет после кератопластики риск отторжения трансплантата составляет 5-17% для СКП у пациентов с низким уровнем риска отторжения и 8-14% у пациентов после DSAEK. Таким образом, риск развития иммунного отторжения трансплантата после DSAEK, вероятно, более низкий, чем после СКП. Этому может быть несколько объяснений. Во-первых, введение аллоантигенов в переднюю камеру вызывает системное ингибирование адаптивных иммунных ответов против этих антигенов, и их представление антигенпрезентирующим клеткам реципиента, которые в основном находятся в передней части стромы, также уменьшается. Точно так же при DSAEK пересаживается значительно меньше антигенпрезентирующих клеток донора, которые, как было показано, способствуют развитию реакции отторжения трансплантата. Кроме того, трансплантируемая донорская ткань может быть менее иммуногенной, поскольку эпителий и большая часть донорской стромы не пересаживается. Другим важным фактором является отсутствие или минимальное количество роговичных швов, которые могут ослабнуть при СКП и вызвать воспаление с развитием вторичного иммунного ответа [18].
Иммунный ответ после DSAEK клинически менее выражен, чем после СКП. В исследовании, проведенном M. O. Price и его коллегами в 2009 г. на 598 пациентах, показано, что в 35% случаев иммунные реакции отторжения протекают бессимптомно и диагностируются только во время планового осмотра [19]. Признаки развития иммунной реакции на донорский трансплантат при DSAEK также отличаются от таковых при СКП. Так, чаще всего они проявляются в виде изолированных преципитатов, которые могут быть очаговыми или диффузными (60-70%). Другими признаками отторжения трансплантата являются отек роговицы (10-25%) и клетки во влаге передней камеры (25%). Классические эндотелиальные линии отторжения (линии Ходадоуста) встречаются редко. В нескольких исследованиях сообщалось о времени между операцией и отторжением трансплантата: в исследовании E. I. Wu с соавт. 2012 г., описывающем 353 случая DSAEK, было показано, что болезнь трансплантата развивается в среднем через 13±10 месяцев после операции [20]. Похожее исследование выполнила L. Sepsakos с соавт. в 2016 г., в котором они проанализировали отдаленные результаты DSAEK у 400 пациентов с дистрофией Фукса и выяснили, что чаще все отторжение донорского материала наблюдается через 19–30 месяцев после операции [21]. При этом ими было замечено, что вероятность отторжения трансплантата увеличивается при раннем отказе от местного применения стероидов и если толщина трансплантата превышает 145 мкм.
Следует отметить, что, судя по статистическим отчетам американской ассоциации глазных банков (EBAA U. S.), хотя общее количество выполненных задних послойных кератопластик постоянно увеличивается, это происходит в основном из-за резкого увеличения частоты выполнения операции DMEK, количество выполненных операций DSAEK за последние годы уменьшилось.
Трансплантация десцеметовой мембраны с эндотелием (DMEK). DMEK включает селективную трансплантацию эндотелия роговицы и десце-метовой мембраны. Основными преимуществами DMEK по сравнению с предыдущим типом задней послойной кератопластики являются очень низкая вероятность развития отторжения трансплантата, более быстрое восстановление зрительных функций и тот факт, что для проведения операции требуется значительно меньше технического оборудования. Тем не менее DMEK считается вмешательством более высокого уровня сложности и технически тяжелее в исполнении, чем DSAEK.
Существует несколько способов подготовки трансплантата для выполнения DMEK, здесь описывается самый распространенный [22]. Трипановым синим окрашивается эндотелий роговицы, далее отсепаровывается по кругу край десцеметовой мембраны и постепенно тянущими движениями приподнимается к центру с помощью двух пинцетов для завязывания, центральную область роговицы около 3×3 мм остается нетронутой. С помощью трепана из корнеосклерального лоскута вырезается трансплантат необходимого диаметра. Наконец, трансплантат полностью отслаивается, при этом он скручивается либо очень плотно, приобретая форму сигары, либо в форме сигар, либо в виде двойного рулона или свободными складками, но всегда эндотелием наружу. При этом чем моложе донор, тем плотнее скручивается трансплантат, что увеличивает в дальнейшем время его расправления в передней камере реципиента [23]. В связи с этим в качестве доноров для DMEK предпочитают выбирать роговицы людей старше 50 лет, к тому же у них значительно легче отходит десцеметовая оболочка от стромы, что уменьшает вероятность повреждения трансплантата в процессе его препаровки. Следующим шагом является перенос трансплантата в глаз с помощью устройства, которое минимально повреждает эндотелий. Для этого используют несколько типов устройств — от инжекторов для имплантации интраокулярных линз (ИОЛ) до стеклянных пипеток и трубок, изготовленных специально для этой цели. Самая распространенная техника для имплантации расправления трансплантата DMEK — это техника «no-touch» [24].
Оставшуюся после отделения десцеметовой оболочки вместе с эндотелием ткань донорской роговицы впоследствии можно использовать для глубокой передней послойной кератопластики (DALK) у второго реципиента. В этом процессе, называемом трансплантация сплит-роговицы, один трансплантат может использоваться для двух операций DMEK и DALK у двух разных реципиентов соответственно, что способствует снижению общего дефицита донорского материала [25]. В нескольких исследованиях было продемонстрировано, что трансплантация разделенной на слои роговицы может быть включена в качестве безопасной процедуры в клиническую практику [25].
DMEK в отличие от DSEK входила в широкую хирургическую практику достаточно долго. В основном это связано с необходимостью применять высокой сложности манипуляции в ходе обращения с очень тонким трансплантатом, в связи с чем кривая обучения хирургами достаточно крутая [26]. Частота развития первичной эндотелиальной недостаточности (6-8%) и потери донорской ткани при DMEK выше, чем у DSEK [21].
Осложнения DMEK включают отслойку трансплантата, кровоизлияние, вторичную глаукому, синдром Урретс-Завалия, первичную и вторичную недостаточность трансплантата, кальцификацию ИОЛ и макулярный отек [27]. Отслойка трансплантата является наиболее распространенным осложнением после DMEK и случается чаще, чем после DSAEK. Так, частота встречаемости отслойки трансплантата после DSAEK равна 14 на 1000 операций, а после DMEK — 79 на 1000 операций [28]. Количество случаев повторного введения воздуха в переднюю камеру значительно уменьшилось после замены воздуха на 20%-й газ SF6 [29] и теперь составляет менее 3% [27]. Небольшие отслойки трансплантата часто прилегают самопроизвольно. Более крупные отслойки, особенно если они имеют свернутые края, часто необходимо прикладывать путем повторного введения воздуха/газа [30]. Между тем до сих пор нет стандартизированных критериев необходимости и сроков повторной тампонады. Повышение внутриглазного давления после DMEK в ранний послеоперационный период обычно обусловлено зрачковым блоком. Возникновение зрачкового блока можно предотвратить с помощью базальной иридотомии или иридэктомии, раннего выведения газа из передней камеры или неполной эндотампонады во время процедуры. Кальцификация ИОЛ является редким осложнением, его частота встречаемости составляет примерно 2%. Патомеханизм кальцификации ИОЛ до сих пор полностью не изучен. Кистозный макулярный отек возникает после DMEK с частотой около 10% и поэтому является распространенным осложнением [31]. После введения усиленного режима инстилляции кортикостероидов в послеоперационном лечении кистозный макулярный отек фактически перестал встречаться как осложнение DMEK. До настоящего времени нет сообщений о применении нестероидных противовоспалительных препаратов для предотвращения развития кистозного макулярного отека после DMEK. Можно предположить, что нестероидные противовоспалительные препараты могут быть также эффективны, как в случае с хирургией катаракты. Тем не менее необходимы клинические испытания, чтобы предоставить доказательства их эффективности в использовании.
При решении выполнить одномоментно DMEK в сочетании с операцией по удалению катаракты нужно учитывать гиперметропический сдвиг при выборе ИОЛ. Рефракционные изменения, скорее всего, вызваны уменьшением отека роговицы после замены пораженных слоев. Этот гиперметропический сдвиг обычно составляет приблизительно 0,31 дптр. В среднем гиперметропический сдвиг после DMEK меньше, чем после DSAEK [32]. Из опубликованных в 2016 г. данных L. Ham c соавт., наблюдавшими за 250 глазами после DMEK в течение 4–7 лет, следует, что через 6 месяцев после операции МКОЗ 0,8 и выше было в 73% глаз и 1,0 — в 44% глаз, а через 4 года зрение 0,8 и выше диагностировали в 83% случаев, а 1,0 — в 54% [33]. При этом после DMEK в отличие от других описанных типов кератопластики не характерно появления аберраций высокого порядка. Потеря эндотелиальных клеток в послеоперационный период схожа между DMEK и DSAEK [34]. Потеря эндотелиальных клеток после DMEK составляет примерно 38% через 12 месяцев. L. Ham c соавт. сообщают о потере 33,9% эндотелиальных клеток через 6 месяцев, 37,6% — через 1 год и 52,6% — через 4 года после DMEK [33], тогда как D.A. Price c соавт. говорят о потере 48% эндотелиальных клеток за 5 лет [34]. Стабильность остроты зрения достигается обычно через 6 месяцев после DMEK, что быстрее, чем после DSAEK [35], при этом острота зрения после DMEK в среднем лучше, чем DSAEK [28].
DMEK является перспективным способом лечения вторичной эндотелиальной недостаточности трансплантата после СКП. S. Schrittenlocher c соавт. (2020) ретроспективно проанализировали данные 52 случаев замены задних слоев роговичного трансплантата и получили следующие данные: толщина роговицы уменьшилась с 770±213 до 536±61 мкм через 12 месяцев после DMEK за счет уменьшение отека; с уменьшением отека острота зрения с 1,07±0,33 (log MAR) улучшилась до 0,72±0,39 ( n =33), 0,56±0,36 ( n =32), 0,38±0,28 ( n =23), 0,37±0,21 ( n =21) и 0,32±0,18 по шкале log MAR через 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев после операции соответственно; роговичный астигматизм после DMEK не изменился. В 7 случаях из 52 развилась иммунная реакция отторжения трансплантата, что потребовало повторной кератопластики [36].
Риск развития болезни трансплантата после DMEK крайне незначителен. Так, A. Anshu с соавт. (2012) сообщили об одном эпизоде отторжения трансплантата из 140 случаев наблюдения после DMEK [37], в другом исследовании, проведенном L. Baydoun c соавт. (2016), отторжение трансплантата наблюдалось у 17 из 750 глаз [38]. В самом крупном на сегодня отчете говорится о 12 случаях отторжения трансплантата в когорте из 905 глаз после DMEK, при этом в 1-й год после операции вероятность развития отторжения равна 0,9%, а через 4 года — всего 2,3% [39]. Клиническая картина отторжения трансплантата после DMEK может быть почти незаметной. Иммунные реакции отторжения могут проявляться в виде классической линии Ходадоуста, но чаще всего встречаются в виде диффузных эндотелиальных преципитатов [39]. Преципитаты обычно ограничены рамками трансплантата, но иногда могут встречаться на периферических участках роговицы, которые не содержат десцеметовой оболочки после проведенного десцеметорексиса, но и не покрыты трансплантатом [40]. Дополнительными клиническими признаками острого отторжения трансплантата могут быть взвесь в передней камере и отек роговицы. Интересные данные получила С. Monnereau и ее коллеги в 2014 г., ретроспективно анализируя данные 500 случаев DMEK в 7 из которых развилось отторжение трансплантата. Они показали, что характерные морфологические изменения эндотелиальных клеток наблюдались уже за несколько месяцев до того, как реакция отторжения стала клинически очевидной. В отличие от контрольной группы глаз, у которой после DMEK не развилось болезни трансплантата, где наблюдали гомогенную отражательную способность эндотелиальных клеток, их довольно правильную форму без видимой структуры клеточных ядер и равномерное распределение, в глазах с развивающимся отторжением аллотрансплантата выявили нерегулярность формы эндотелиальных клеток, их размеров и распределения по поверхности, также у них увеличилась отражательная способность, и появились ярко выраженные клеточные ядра. Это исследование показывает, что отторжение аллотрансплантата может быть не острым явлением, а скорее медленно развивающейся иммунной реакцией, и что мониторинг донорского эндотелия может использоваться для прогнозирования развития отторжения трансплантата [41].
Пациенты с отторжением роговичного трансплантата после DMEK часто могут не предъявлять никаких жалоб, особенно при отсутствии отека роговицы, несмотря на наличие эндотелиальных преципитатов [39]. Кроме того, больные могут жаловаться на дискомфорт в глазах, покраснение и снижение остроты зрения. Поскольку большинство случаев отторжения трансплантата протекает бессимптомно, необходимо регулярное наблюдение за пациентами после DMEK. При своевременном начале стероидной терапии острота зрения и толщина роговицы в центре остаются стабильными в большинстве случаев, однако плотность эндотелиальных клеток значительно снижается. При этом значения плотности эндотелиальных клеток через 3 месяца и 1 год после эпизодов отторжения трансплантата сопоставимы, и дальнейшего их снижения не наблюдается [39].
Таким образом, основной проблемой использования DMEK, вызывающей беспокойство, помимо крутой кривой обучения хирурга, является то, что возраст донора должен быть более 50 лет для облегчения препаровки трансплантата [23]. Теоретически с увеличением возраста донора снижается жизнеспособность эндотелиальных клеток трансплантата в глазу хозяина и уменьшается плотность эндотелиальных клеток. Вероятно, с возрастом меняется структура десцеметового слоя, уменьшая его адгезию к вышележащим слоям роговицы, поэтому у пожилых людей может происходит спонтанная отслойка десцемето-вой мембраны во время удаления катаракты [42–44]. Это может служить одной из причин увеличения частоты отслойки трансплантата после DMEK, поэтому все большей популярностью начинает пользоваться техника предесцеметовой ЭК, которая позволяет пересаживать ткани молодых доноров.
Преэндотелиальная кератопластика с десце-меторексисом (PDEK). В статье, в которой впервые описывалось наличие предесцеметового слоя, также показывалась возможность его использования единым блоком вместе с десцеметовой мембраной и эндотелиальными клетками [45]. Основываясь на описанном H. S. Dua методе, в качестве альтернативы DSEK и DMEK была разработана методика трансплантации ткани пациентам [46], получившая название PDEK. Главное преимущество трансплантата PDEK перед DMEK состоит в том, что он гораздо меньше подвержен скручиванию [47], что значительно упрощает работу хирурга. Дополнительным преимуществом PDEK является то, что в отличие от DMEK трансплантат можно получать от очень молодых доноров и даже детей до года, у которых выше плотность эндотелиальных клеток [48]. По сравнению с трансплантатами, используемыми при DSAEK, толщина которых за счет задних слоев стромы составляет приблизительно 100–150 мкм, трансплантат для PDEK значительно тоньше. Его толщина складывается из толщины десцеметовой мембраны с эндотелиальными клетками — 10,97±2,36 мкм и толщины слоя Дуа 10–13,6 мкм. При этом в имеющихся слоях волокон не обнаруживаются клетки, что, скорее всего, уменьшает вероятность развития реакции отторжения.
Техника подготовки донорской ткани для PDEK заключается в следующем: иглу 30G, соединенную с 5-миллилитровым шприцем, заполненным воздухом, вводят со стороны склерального кольца в средние слои стромы, скошенный кончик иглы направлен к эндотелию. Воздух вводится в роговицу до тех пор, пока не сформируется большой пузырь 1-го типа
-
[46 ]. Воздух, введенный в строму, радиальным потоком достигает лимба, от лимба он начинает двигаться по окружности по часовой стрелке или против часовой стрелки, образуя кольцо отсепарованной ткани параллельно лимбу. Затем воздух меняет свое движение на центростремительное, заполняет оставшуюся строму и собирается в виде крошечных пузырьков между предесцеметовым слоем и задними слоями стромы, которые затем сливаются, образуя большой пузырь 1-го типа [49]. Когда диаметр пузыря достигает приблизительно 7–8 мм, подачу воздуха прекращают, и игла извлекается. Для облегчения формирования пузыря 1-го типа можно использовать специальный PDEK-зажим, который предотвращает выход воздуха через трабекулярную сеть и практически исключает возможность формирования большого пузыря 2-го типа [50]. Далее трансплантат отрезается либо при помощи ножниц, либо используют трепан. Введение трансплантата в переднюю камеру осуществляют с помощью стеклянной канюли. Вместо воздуха для сепаровки слоев может быть использован вискоэластик или культуральная среда.
Потеря эндотелиальных клеток при подготовке донорской ткани для PDEK немного меньше, чем для DMEK. Поскольку диаметр трансплантата PDEK меньше, чем трансплантата DMEK, то трансплантируется меньше эндотелиальных клеток. Тем не менее постулируется, что меньшее количество манипуляций, необходимых при разворачивании трансплантата, могут это компенсировать.
Заключение. Эндотелиальная кератопластика по технологии DSAEK или DMEK наиболее часто используется в клинической практике, но имеет ряд недостатков, таких как сложность хирургической техники, непредсказуемость функционального результата, возрастное ограничение доноров. Альтернативной технологией трансплантации роговичной ткани, позволяющей избежать перечисленные проблемы, является PDEK (технология преэндотелиальной кератопластики с десцеметорексисом). Поскольку PDEK является относительно новой техникой кератопластики, то еще нет анализа отдаленных результатов лечения. До сих пор остаются не изученными такие аспекты, как послеоперационная острота зрения (сопоставима ли она с таковой после DMEK, какой вклад в рассеяние света вносит предесцеметовый слой), уменьшает ли предесцеметовый слой вероятность отслойки трансплантата, какова частота развития реакции отторжения, влияет ли возраст донора на качество трансплантата и получаемые результаты после кератопластики. Для получения ответов на эти и другие вопросы необходимо проведение дополнительных исследований и более глубокое изучение вопроса.
Список литературы Развитие технологий эндотелиальной кератопластики (обзор)
- Call for proposals for multinational and translational research projects on cerebrovascular diseases including small vessels and brain barriers dysfunction. ERA-NET Neuron 2022 [Call text of the 2022 "Cerebrovascular Diseases" call]. 2022. URL: https://www.neuron-eranet.eu/wp-content/uploads/NEURON_ JTC_2022. pdf (1 Mar 2022).
- Owolabi MO, Thrift AG, Mahal A, et al. Primary stroke prevention worldwide: translating evidence into action. Lancet Public Health 2022; 7 (1): e74-e85. DOI: 10.1016/S2468-2667 (21)002309.
- Feigin VL, Brainin M, Norrving B, et al. World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2022. Int J Stroke 2022; 17 (1): 18-29. DOI: 10.1177/17474930211065917.
- Kontsevaya AV, Drapkina OM, Balanova YA, et al. Economic burden of cardiovascular diseases in the Russian Federation in 2016. Rational Pharmacotherapy in Cardiology 2018; 14 (2): 156-66. DOI: 10.20996/1819-6446-2018-14-2-156 -166. Russian (Концевая А. В., Драпкина О. М., Баланова Ю. А. и др. Экономический ущерб сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации в 2016 году. Рациональная фармакотерапия в кардиологии 2018; 14 (2): 156-66. DOI: 10.209 96/1819-6446-2018-14-2-156-166).
- AbuRahma AF, Perler bA, eds. Noninvasive vascular diagnosis: A practical textbook for clinicians. 5th ed. N. Y.: Springer Nature Switzerland AG, 2022; p. vii.
- Russian clinical guidelines for surgical treatment of stenosing lesions of the main arteries of the brain in a neurosurgical hospital. Moscow: Association of Neurosurgeons of Russia, 2014. 32 p. Russian (Хирургическое лечение сте-нозирующих поражений магистральных артерий головного мозга в условиях нейрохирургического стационара: клин. рекомендации. М.: Ассоциация нейрохирургов России, 2014. 32 с.).
- Simon RP, Aminoff MJ, Greenberg DA, eds. Clinical Neurology. 10th ed. N. Y.: McGraw-Hill Education, 2018; p. 369405.
- Danilova MA, Baidina TV, Karakulova YV, et al. Pathologic carotid arteries tortuosity. Perm Medical J 2018; 35 (6): 82-8. DOI: 10.17816/pmj35682-88. Russian (Данилова М. А., Бай-дина Т. В., Каракулова Ю. В. и др. Патологическая извитость сонных артерий. Пермский медицинский журнал 2018; 35 (6): 82-8. DOI: 10.17816/pmj35682-88).
- Valdueza J, Schreiber S, Roehl JE, et al. Neurosonology and neuroimaging of stroke: a comprehensive reference. 2nd ed. N. Y.: Thieme Medical Publishers, 2017; 630 p.
- Fomkina OA, Ivanov DV, Kirillova IV, Nikolenko VN. Biomechanical modelling of cerebral arteries at different variants of configuration of intracranial arteries of vertebrobasilar system. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 118-27. Russian (Фомкина О. А., Иванов Д. В., Кириллова И. В., Николенко В. Н. Биомеханическое моделирование артерий головного мозга при разных вариантах конструкции внутричерепных артерий вертебробазилярной системы. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (2): 118-27).
- Nikolenko VN, Fomkina OA, Gladilin YuA. Age, sex and bilateral features of lumen diameter and wall thickness of vertebral arteries in adults. Morphology 2008; 133 (3): 79-80. Russian (Николенко В. Н., Фомкина О. А., Гладилин Ю. А. Возрастные, половые и билатеральные особенности диаметра просвета и толщины стенки позвоночных артерий у взрослых людей. Морфология 2008; 133 (3): 79-80).
- Nichols WW, O'Rourke M, Vlachopoulos C, eds. McDonald's blood flow in arteries: theoretical, experimental and clinical principles. 6th ed. L.: CRC Press, 2011; 768 p.
- Hoskins PR, Fleming A, Stonebridge P, et al. Scanplane vector maps and secondary flow motions in arteries. Eur J Ultrasound 1994; (1): 159-60.
- Stonebridge PA, Hoskins PR, Allan PL, Belch JF. Spiral laminar flow in vivo. Clin Sci (Lond). 1996; 91 (1): 17-21. DOI: 10.1042/cs0910017.
- Pozniak MA, Allan PL, eds. Clinical Doppler Ultrasound. 3rd ed. L.: Churchill Livingstone/Elsevier, 2014; 400 p.
- Nitya KN, Doshi D, Kulkarni S, et al. Assessment of periodontal status based on carotid artery intima media thickness. Oral Health Prev Dent 2020; 18 (1): 511-9. DOI: 10.3290/j.ohpd. a44036.
- Chambless LE, Zhong MM, Arnett D, et al. Variability in B-mode ultrasound measurements in the atherosclerosis risk in communities (ARIC) study. Ultrasound Med Biol 1996; 22 (5): 545-54. DOI: 10.1016/0301-5629(96)00039-7.
- Bots ML, Hoes AW, Koudstaal PJ, et al. Common carotid intima-media thickness and risk of stroke and myocardial infarction: the Rotterdam Study. Circulation 1997; 96 (5): 1432-7. DOI: 10.1161 /01.cir.96.5.1432.
- Polak JF, Pencina MJ, Pencina KM, et al. Carotid-wall intima-media thickness and cardiovascular events. N Engl J Med 2011; 365 (3): 213-21. DOI: 10.1056/NEJMoa1012592.
- Lorenz MW, Markus HS, Bots ML, et al. Prediction of clinical cardiovascular events with carotid intima-media thickness: a systematic review and meta-analysis. Circulation 2007; 115 (4): 459-67. DOI: 10.1161/CIRCULATI0NAHA.106.628875.
- Naqvi TZ, Lee MS. Carotid intima-media thickness and plaque in cardiovascular risk assessment. JACC Cardiovasc Imaging 2014; 7 (10): 1025-38. DOI: 10.1016/j.jcmg. 2013.11.014.
- Imparato AM, Riles TS, Mintzer R, Baumann FG. The importance of hemorrhage in the relationship between gross morphologic characteristics and cerebral symptoms in 376 carotid artery plaques. Ann Surg 1983; 197 (2): 195-203. DOI: 10.1097/00000658-198302000-00012.
- Hennerici M, Rautenberg W, Trockel U, Kladetzky RG. Spontaneous progression and regression of small carotid atheroma. Lancet 1985; 1 (8443): 1415-9. DOI: 10.1016/s0140-6736(85)91845-8.
- Iiji O, Matsumoto M, Handa N, et al. Frequency of carotid ulcerated plaques and its relationship to artery-to-artery embolism. Cerebrovasc Dis 1996; 6 (suppl. 2): 33. DOI: 10.1159/000108073.
- Bluth EI. Evaluation and characterization of carotid plaque. Semin Ultrasound CT MR 1997; 18 (1): 57-65. DOI: 10.1016/s0887-2171(97)90038-x.
- Redgrave JNE, Lovett JK, Gallagher PJ, et al. Histological assessment of 526 symptomatic carotid plaques in relation to the nature and timing of ischemic symptoms: the Oxford Plaque Study. Circulation 2006; 113 (19): 2320-8. DOI: 10.1161/CIRCU LATIONAHA.105.589044.
- Sterpetti AV, Schultz RD, Feldhaus RJ, et al. Ultrasonographic features of carotid plaque and the risk of subsequent neurologic deficits. Surgery 1988; 104 (4): 652-60.
- Sterpetti AV, Hunter WJ, Schultz RD. Importance of ulceration of carotid plaque in determining symptoms of cerebral ischemia. J Cardiovasc Surg (Torino) 1991; 32 (2): 154-8.
- Perez-Burkhardt JL, González-Fajardo JA, Rodriguez E, et al. Amaurosis fugax as a symptom of carotid artery stenosis. Its relationship with ulcerated plaque. J Cardiovasc Surg (Torino) 1994; 35 (1): 15-8.
- Naghavi M, Libby P, Falk E, et al. From vulnerable plaque to vulnerable patient: a call for new definitions and risk assessment strategies: Part I. Circulation 2003; 108 (14): 1664-72. DOI: 10.1161/01.CIR.0000087480.94275.97. PMID: 14530185.
- Nicolaides AN, Kakkos SK, Kyriacou E, et al. Asymptomatic internal carotid artery stenosis and cerebrovascular risk stratification. J Vasc Surg 2010; 52 (6): 1486-96; e1-5. DOI: 10.1016/j.jvs.2010.07.021.
- Topakian R, King A, Kwon SU, et al. Ultrasonic plaque echolucency and emboli signals predict stroke in asymptomatic carotid stenosis. Neurology 2011; 77 (8): 751-8. DOI: 10.1212/WNL.0b013e31822b00a6.
- Naim C, Douziech M, Therasse E, et al. Vulnerable atherosclerotic carotid plaque evaluation by ultrasound, computed tomography angiography, and magnetic resonance imaging: an overview. Can Assoc Radiol J 2014; 65 (3): 275-86. DOI: 10.1016/j.carj.2013.05.003.
- Delcker A, Diener HC, Wilhelm H. Influence of vascular risk factors for atherosclerotic carotid artery plaque progression. Stroke 1995; 26 (11): 2016-22. DOI: 10.1161 /01.str.26.11.2016. PMID: 7482641.
- Kardoulas DG, Katsamouris AN, Gallis PT, et al. Ultrasonographic and histologic characteristics of symptom-free and symptomatic carotid plaque. Cardiovasc Surg 1996; 4 (5): 580-90. DOI: 10.1016/0967-2109(96)00030-0.
- Virmani R, Kolodgie FD, Burke AP, et al. Lessons from sudden coronary death: a comprehensive morphological classification scheme for atherosclerotic lesions. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000; 20 (5): 1262-75. DOI: 10.1161 /01.atv. 20.5.1262.
- Fisher M, Paganini-Hill A, Martin A, et al. Carotid plaque pathology: thrombosis, ulceration, and stroke pathogenesis. Stroke 2005; 36 (2): 253-7. DOI: 10.1161/01.STR. 0000152336. 71224.21.
- Loree HM, Kamm RD, Stringfellow RG, et al. Effects of fibrous cap thickness on peak circumferential stress in model atherosclerotic vessels. Circ Res 1992; 71 (4): 850-8. DOI: 10.1161 /01.res.71.4.850.
- Fabris F, Zanocchi M, Bo M, et al. Carotid plaque, aging, and risk factors. A study of 457 subjects. Stroke 1994; 25 (6): 1133-40. DOI: 10.1161 /01.str.25.6.1133.
- Siebler M, Kleinschmidt A, Sitzer M, et al. Cerebral microembolism in symptomatic and asymptomatic high-grade internal carotid artery stenosis. Neurology 1994; 44 (4): 615-8. DOI: 10.1212/wnl.44.4.615.
- Vereshchagin N. V., Morgunov V. A., Gulevskaya T. S. Brain changes in atherosclerosis and arterial hypertension. Moscow: Medicine, 1997; 288 p. Russian (Верещагин Н. В., Моргунов В. А., Гулевская Т. С. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии. М.: Медицина, 1997; 288 с.).
- Geroulakos G, Ramaswami G, Nicolaides A, et al. Characterization of symptomatic and asymptomatic carotid plaques using high-resolution real-time ultrasonography. Br J Surg 1993; 80 (10): 1274-7. DOI: 10.1002/bjs.1800801016.
- Comerota AJ, Katz ML, White JV, et al. The preoperative diagnosis of the ulcerated carotid atheroma. J Vasc Surg 1990; 11 (4): 505-10.
- Troyer A, Saloner D, Pan XM, et al. Assessment of carotid stenosis by comparison with endarterectomy plaque trial investigators. Major carotid plaque surface irregularities correlate with neurologic symptoms. J Vasc Surg 2002; 35 (4): 741-7. DOI: 10.1067/mva.2002.121210.
- Staub D, Partovi S, Schinkel AF, et al. Correlation of carotid artery atherosclerotic lesion echogenicity and severity at standard US with intraplaque neovascularization detected at contrast-enhanced US. Radiology 2011; 258 (2): 618-26. DOI: 10.1148/radiol.10101008.
- Holdsworth RJ, McCollum PT, Bryce JS, et al. Symptoms, stenosis and carotid plaque morphology. Is plaque morphology relevant? Eur J Vasc Endovasc Surg 1995; 9 (1): 80-5. DOI: 10.1016/s1078-5884(05)80229-1.
- Lelyuk VH, Lelyuk SE. Ultrasound angiology. Moscow: Real Time, 2007; 398 p. Russian (Лелюк В. Г., Лелюк С. Э. Ультразвуковая ангиология. М.: Реал Тайм, 2007; 398 с.).