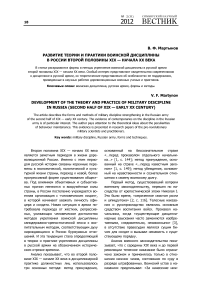Развитие теории и практики воинской дисциплины в России второй половины XIX - начала XX века
Автор: Мартынов Вячеслав Федорович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 2 (8), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются формы и методы укрепления воинской дисциплины в русской армии второй половины XIX - начала XX века. Особый интерес представляют свидетельства современников о дисциплине в русской армии, их теоретические представления об особенностях ее поддержания, приведенные в научных работах дореволюционных военных ученых и практиков.
Воинская дисциплина, русская армия, формы и методы
Короткий адрес: https://sciup.org/14113649
IDR: 14113649
Текст научной статьи Развитие теории и практики воинской дисциплины в России второй половины XIX - начала XX века
Вторая половина XIX — начало XX века является заметным периодом в жизни дореволюционной России. Именно с этим периодом русской истории связаны коренные перемены в экономической, политической и культурной жизни страны, переход к новой, более прогрессивной форме существования общества. Под влиянием объективных и субъективных причин меняются и вооружённые силы страны, в России постепенно учреждается военная организация с «человеческим лицом», в которой начинают уважать личность офицера и солдата. Новая ситуация в армии потребовала перехода от жёстких, репрессивных, унижающих человеческое достоинство методов укрепления воинской дисциплины самодержавно-крепостнической эпохи к воспитательным методам, соответствующим духу нарождающихся в России буржуазных отношений. И эта тенденция стала определяющей в теории и практике укрепления дисциплины в русской армии на обозначенном историческом отрезке времени.
Анализ показывает, что во второй половине XIX — начале XX века в дисциплинарной практике должностных лиц использовалось три основных метода: метод принуждения, основанный на бессознательном страхе «…перед произволом отдельного начальника…» [1, с. 144]; метод принуждения, основанный на страхе «...перед известным законом» [1, с. 149]; метод убеждения, основанный на нравственности и сознательном отношении к своему воинскому долгу.
Первый метод, существовавший вопреки военному законодательству, перешел по наследству от крепостнической эпохи Николая I. Это было время, «омраченное свистом розги и шпицрутена» [2, с. 116]. Телесные наказания и рукоприкладство являлись основным средством воспитания войск. Произвол начальника, когда «существующие дисциплинарные взыскания часто заменяются изобретаемыми, следовательно, незаконными» [3], в отсутствие правосудия являлся сущим бичом для солдат и вызывал ненависть к существующему порядку.
Анализ военного законодательства показывает, что с середины XIX века и до первой революции телесное наказание было ограничено законом и применялось только в отношении нижних чинов, состоявших по суду в разряде штрафованных. Воинский устав о наказаниях предписывал: «За нанесение ниж- ним чинам ударов или побоев виновные в том офицеры подвергаются содержанию на гауптвахте до шести месяцев или взысканию дисциплинарному, а в случае повторения — исключению из службы или отставлению от оной» [4, cт. 185]. Несмотря на эти требования и декларирование охраны чести и достоинства солдата, рукоприкладство еще долгое время не исчезало из обихода соотношений офицеров с подчиненными. Оно сохранялось негласно, как традиция, которая редко преследовалась со стороны органов государственного и военного управления.
Сторонниками этого способа наведения порядка в войсках в исследуемый период были генералы и офицеры — противники всего нового и прогрессивного. Вопреки закреплённым в уставах прогрессивным принципам воспитания, они по-прежнему исходили из того, что дисциплина в армии должна держаться на страхе наказания, а основными формами её укрепления считали постановку под ружьё, карцер, телесные наказания и т. д. В среде строевых офицеров, их высоких покровителей в штабах и во властных структурах ещё не были изжиты проявления невежества, косности, казенщины, имело место распространение плац-парадных настроений, показухи и пренебрежительного отношения офицеров к воспитанию и обучению подчинённых. Обращаясь к таким офицерам, М. И. Драгомиров писал: «Этим многим воинская дисциплина рисуется до сих пор так, как будто она все еще проявляется во всеоружии палок, шпицрутенов и безграничного произвола, т. е. именно того, что уже давно признано не охранительной силой дисциплины, а разрушающею к ней примесью» [5, с. 33].
Однако с конца 80-х — начала 90-х годов XIX века обстановка начала меняться. По почину Киевского военного округа началось движение против этого явления. Командующий округом М. И. Драгомиров в одном из приказов отмечал: «В некоторых частях дерутся. Прошу помнить, что в Дисциплинарном уставе сказано, какие на нижних чинов можно налагать взыскания, а коих никто иных налагать не имеет. Рекомендую охотникам до ручной расправы ознакомиться с XXII т. Свода В. П. 1867 г., ст. 185, из которой они откроют, чего могут ожидать в будущем, если позволят себе впредь, рядом с дисциплинарным уставом сочинять свой собственный» [6].
В Киевском военном округе о каждом случае рукоприкладства требовалось доносить по команде, как о происшествии.
Постепенно рукоприкладство стало прекращаться, особенно после 1904 года, когда телесные наказания в войсках были отменены окончательно. «Кулачная расправа стала изнанкой казарменного быта — скрываемой, осуждаемой и преследуемой… Во всяком случае, ко времени великой войны рукоприкладство, где оно у нас существовало, являлось только больным пережитком изжитой системы и изжившего себя обычая» [2, с. 345].
Совершенствование законодательной базы воинской дисциплины, создание системы правоохранительных органов предполагало использование в дисциплинарной практике русской армии метода принуждения, применявшегося к тем лицам, которые нарушали «правила, предписанные военными законами». Очевидно, что страх перед известным законом был более оправдан и справедлив, чем бессознательный страх перед произволом каждого отдельного начальника. Судебная практика в пореформенной России, основанная на началах «скорого, правого, милостивого» суда, в отличие от «николаевских» времён, когда суды «были излишней формальностью» [7, с. 189], давала больше шансов военнослужащим на справедливость. В складывающихся условиях у командиров становилось всё меньше возможностей вершить произвол во вверенном подразделении.
Во второй половине XIX — начале XX века благодаря усилиям государственных и военных органов, лучших представителей офицерского корпуса важнейшим методом поддержания воинской дисциплины в армии становится метод убеждения. Воинскую дисциплину начинают укреплять посредством нравственного воспитания военнослужащих, формирования осознанного отношения к выполнению своего служебного долга.
По мнению известного военного педагога, автора «Курса военно-прикладной педагогики» Д. Н. Трескина, «новые военные законы, изданные после Севастопольской войны, в основу дисциплины ставят не суровость наказаний, а нравственное воспитание солдата» [8, с. 14]. Анализ законодательных актов показывает, что это мнение справедливо. Так, статья 4 Дисциплинарного устава обязывает начальника «в сношении с подчинёнными быть справедливым, быть в потребных случаях их советником и руководителем, избегать всякой неуместной строгости, не оправдываемой требованиями службы, а также развивать и поддерживать в каждом офицере и солдате сознание о высоком значении воина, призванного к защите Престола и Отечества от врагов внешних и внутренних» [9]. Статья 154 Устава внутренней службы (1910 г.) предписывает начальникам «внушать подчинённым, что совершённое повиновение начальникам есть душа воинской службы и залог успеха в бою», а Приложение 14 этого же документа излагает формы и методы нравственного, умственного и физического развития нижних чинов [10].
В высшем руководстве страны и армии постепенно возобладало мнение, что телесные наказания, а тем более незаконные, являются не поддержанием дисциплины, а, наоборот, представляют собой «в высшей степени расслабляющий её элемент». В связи с этим больше внимания стало уделяться воспитанию воинов в духе сознательной дисциплины.
Необходимость нравственного воспитания солдата стала очевидной и была признана «в массе начальствующих лиц и стала быстро распространяться по окончании последней русско-турецкой войны, когда во главе нашей армии появились даровитые руководители» [8, с. 16].
Как показало настоящее исследование, большую роль в формировании в офицерской среде прогрессивных взглядов на методы укрепления воинской дисциплины в этот период сыграл генерал от инфантерии М. И. Драгомиров. По его мнению, дисциплина должна укрепляться не жестокостью, палками, шпицрутенами и безграничным произволом, а «непрерывной настойчивостью в раз поставленных требованиях, справедливостью, строгой законностью, заботливостью о солдате, честным отношением к его довольствию» [11, с. 385].
Одной из главных задач нравственного воспитания Драгомиров считал привитие военнослужащим дисциплины. «Старайтесь прежде всего вкоренить в солдат чувство военного долга, развейте в его голове идеи чести и честности, — подчеркивал он, — укрепите и возвысьте его сердце, а остальное придет само собою… Выше всего стоит готовность страдать и умирать, т. е. самоотвержение, оно да- ет силу претерпеть до конца, принести Родине жертву высшей любви» [11, с. 386].
Много внимания нравственному воспитанию офицеров и солдат уделял другой выдающийся деятель России, герой русско-турецкой войны генерал М. Д. Скобелев. Сторонник железной дисциплины, Скобелев вместе с тем вел решительную борьбу с рукоприкладством, унижением личного достоинства солдат. Однажды на его глазах один из командиров ударил солдата. Скобелев потребовал от офицера впредь этого не делать и заметил: «Дисциплина должна быть железной. В этом нет никакого сомнения, но достигается это нравственным авторитетом начальника, а не бойней... Срам, полковник, срам! Солдат должен гордиться тем, что он защищает свою Родину, а вы этого защитника, как лакея, бьёте... Гадко... Нынче и лакеев не бьют...» [12, с. 177].
Проблемам нравственного воспитания в период после русско-турецкой войны был посвящен целый ряд работ. Наряду с Драгомировым эту тему разрабатывали Н. Д. Бутовский, В. И. Дацевич, Н. И. Мау, А. А. Терехов, Н. Я. Шнеур и др. Передовые генералы и офицеры приходили к общему мнению, что палочными и другими жестокими мерами дисциплину в армии насаждать невозможно. Они были едины в своих суждениях в том, что дисциплина должна основываться не на жестокости наказания, не на страхе солдат перед карами за ее нарушение, а на их сознательном отношении к службе, законности и обоснованности взысканий.
Генерал-лейтенант Н. Д. Бутовский, посвятивший проблемам воинского воспитания целую серию статей и книг, считал, что нужно и воспитание, и «разумная муштровка», чтобы солдат «не действовал бы как фридри-ховская машина, а был бы в своей маленькой области человеком разумным, инициатором». Считая близость к подчиненным важным условием успешной работы по дисциплиниро-ванию воинов, он писал: «Начальник, формально относящийся к требованиям дисциплинарного устава, т. е. не оставляющий проступков своих подчиненных без взысканий, но худо знающий их как людей, не искореняет зла. …взыскания, налагаемые без должного внимания, не только представляют паллиативную меру, но и бывают в большинстве случаев несправедливыми» [13, с. 54].
Особое внимание к вопросам нравственного воспитания войск стали проявлять в России после бесславного поражения в русско-японской войне. Фундаментальные труды и статьи, опубликованные в периодической печати России того времени, обобщали мысли боевых офицеров и генералов, искавших эффективные возможности повышения боеспособности и дисциплины русской армии на путях существенного улучшения воспитания и обучения офицеров и солдат. Целая система реформ в вопросах обучения, воспитания военнослужащих была развернута в работах генерала Д. П. Парского и Д. Н. Трескина и др.
Что лежит в основе прочности воинской дисциплины: страх наказания за содеянное или осознанное отношение к соблюдению требований уставов, приказов командиров и начальников? Этот вопрос оставался в центре внимания теоретиков и практиков военного дела и после завершения русско-японской войны. Было немало офицеров и генералов, которые в целях укрепления дисциплины требовали усиления жестокости наказания, применения принципа «круговой поруки», отдания под суд солдат и матросов. Но, справедливости ради, следует отметить, что лучшая, прогрессивная часть русского офицерства была глубоко убеждена в том, что путём сохранения в армии крепостнических порядков, превращения воинской повинности в наказание, в школу произвола и насилия сделать войско дисциплинированным, способным побеждать в бою невозможно.
«Разумная дисциплина зиждется на авторитете начальника, на полном к нему доверии со стороны подчинённого, но отнюдь не на страхе наказания, — писал участник русско-японской войны полковник Генерального штаба П. И. Изместьев. — Время «капральской палки», время пренебрежения в солдате личностью человека… должно отойти в вечность… Надо отрешиться от прошлого, преступно-прошлого взгляда на солдата как на серую безответственную скотину» [14, с. 26]. «…Нам нужна дисциплина сознательная, а не построенная на одном страхе» [15], — вторил ему Левитский.
Сторонниками прогрессивных методов укрепления дисциплины в тот период были М. С. Галкин, М. Д. Бонч-Бруевич, Н. П. Бирюков, П. И. Изместьев, Д. П. Пармский, В. Л. Рай-ковский, А. П. Скугаревский, Д. Н. Трескин,
-
С. Гершельман, М. В. Грулёв, И. Г. Энгельман, А. И. Деникин и др.
Как уже было сказано, государственное и военное руководство понимало необходимость нравственного воспитания военнослужащих и всячески способствовало его внедрению в повседневную жизнь. Между тем эти устремления не всегда воплощались в жизнь. Так, если в процессе подготовки будущих офицеров нравственному воспитанию уделялось большое внимание, то в войсках очень часто все зависело от личности военачальника, его взглядов и усилий. В одних частях духовно-нравственное воспитание занимало второстепенное место, и в казарме «царила атмосфера грубости». Вместе с тем такая ситуация наблюдалась далеко не везде, ибо, как впоследствии вспоминал Деникин, «…в жизни отдельных частей в этом отношении царило большое разнообразие: в бытовом укладе их, в законности и гуманности режима сдвигались и раздвигались грани времени» [2, с. 349].
В зависимости от взглядов строили свое воспитание и непосредственные руководители солдат. «В длинной галерее типов, встающих перед моими глазами, наряду с мордобоями и бездушными формалистами, чередуются, и не в малом числе, настоящие подвижники долга, отдававшие бескорыстно свои силы службе, свое сердце, досуг и даже иногда скудные сбережения солдату; отстаивавшие интересы и благополучие своих подчиненных, в явный ущерб своему спокойствию и служебному положению, перед формальным законом и не в меру требовательным начальством; и пробивавшие кору черствости и недоверия, привлекая к себе сердца подчиненных» [2, с. 351].
Таким образом, во второй половине XIX — начале XX века наметилась тенденция к замене принудительных методов укрепления воинской дисциплины методами, основанными на убеждении в необходимости выполнять свой воинский долг. Несмотря на принимаемые «сверху» меры, этот процесс шел медленно, так как препятствовали ему многочисленные сторонники карательных, устрашающих методов поддержания дисциплины. Вместе с тем с 90-х годов XIX века методы «палочной дисциплины» стали жестко пресекаться, и постепенно их влияние на дисциплину свелось на нет.
После Русско-японской войны (1903—1904), Первой русской революции (1905—1907) в результате преобразований духовная жизнь казармы стала насыщаться, постепенно устанавливались более здоровые отношения между солдатом и офицером. Однако прогрессивным замыслам реформы обучения и воспитания ввиду революционных процессов не удалось сбыться.
-
1. Попов, А . Понятие о воинской дисциплине / А. Попов // Военный сб. 1924. Кн. 5.
-
2. Деникин, А. И. Старая армия. Офицеры / А. И. Деникин. М. : Айрис-пресс, 2005.
-
3. Дацевич, В. И. Несколько слов о воспитании и образовании солдат / В. И. Дацевич // Военный сб. 1880. № 11.
-
4. СВП 1869 г. Изд. 2-е. СПб., 1879. Кн. XXII. Гл. II.
-
5. Драгомиров, М. И. Армейские заметки / М. И. Драгомиров // Сб. оригинальных и переводных ст. М. Драгомирова 1856—1880 гг. СПб., 1881. Т. II.
-
6. Приказ по войскам Киевского военного округа от 27 октября 1889 г. № 319.
-
7. Столетие Военного министерства. 1802—1902 гг. : в 13 т. СПб., 1914. Т. 12.
-
8. Трескин, Д. Н. Курс военно-прикладной педагогии. Дух реформ русского военного дела / Д. Н. Трескин. Киев, 1909.
-
9. Дисциплинарный устав // Военный сб. 1879. № 8.
-
10. Высочайше утверждённый Устав внутренней службы. СПб. : Товарищество «В. А. Березовский», 1916.
-
11. Драгомиров, М. И. Избранные тр. / М. И. Драгомиров. М. : Воениздат, 1956.
-
12. О долге и чести воинской в Российской армии : сб. материалов, документов и ст. М. : Воениз-дат, 1990.
-
13. Бутовский, Н. Д. О казарменной нравственности и о внутреннем порядке в войсках (3аметки ротного командира) / Н. Д. Бутовский // Военный сб. 1883.
-
14. Изместьев, П. И. Из области военной психологии / П. И. Изместьев. 2-е изд. Варшава, 1907.
-
15. Братская помощь. М., 1910. № 9.
Список литературы Развитие теории и практики воинской дисциплины в России второй половины XIX - начала XX века
- Попов, А. Понятие о воинской дисциплине/А. Попов//Военный сб. 1924. Кн. 5.
- Деникин, А. И. Старая армия. Офицеры/А. И. Деникин. М.: Айрис-пресс, 2005.
- Дацевич, В. И. Несколько слов о воспитании и образовании солдат/В. И. Дацевич//Военный сб. 1880. № 11.
- СВП 1869 г. Изд. 2-е. СПб., 1879. Кн. XXII. Гл. II.
- Драгомиров, М. И. Армейские заметки/М. И. Драгомиров//Сб. оригинальных и переводных ст. М. Драгомирова 1856-1880 гг. СПб., 1881. Т. II.
- Приказ по войскам Киевского военного округа от 27 октября 1889 г. № 319.
- Столетие Военного министерства. 1802-1902 гг.: в 13 т. СПб., 1914. Т. 12.
- Трескин, Д. Н. Курс военно-прикладной педагогии. Дух реформ русского военного дела/Д. Н. Трескин. Киев, 1909.
- Дисциплинарный устав//Военный сб. 1879. № 8.
- Высочайше утверждённый Устав внутренней службы. СПб.: Товарищество «В. А. Березовский», 1916.
- Драгомиров, М. И. Избранные тр./М. И. Драгомиров. М.: Воениздат, 1956.
- О долге и чести воинской в Российской армии: сб. материалов, документов и ст. М.: Воениздат, 1990.
- Бутовский, Н. Д. О казарменной нравственности и о внутреннем порядке в войсках (3аметки ротного командира)/Н. Д. Бутовский//Военный сб. 1883.
- Изместьев, П. И. Из области военной психологии/П. И. Изместьев. 2-е изд. Варшава, 1907.
- Братская помощь. М., 1910. № 9.