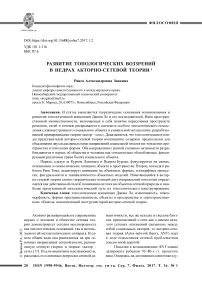Развитие топологических воззрений в недрах акторно-сетевой теории
Автор: Заякина Раиса Александровна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются теоретические основания возникновения и развития топологической концепции Джона Ло и его последователей. Идея пространственной множественности, включающая в себя понятие пересечения пространств регионов, сетей и потоков раскрывается в контексте особого онтологического осмысления сложноустроенного социального объекта и уникальной методологии, разрабатываемой приверженцами теории «актор - сеть». Доказывается, что топологические взгляды представителей акторно-сетевой теории имплицитно содержат предпосылки для объединения двух выделяемых нами направлений социальной топологии: топологии пространства и топологии формы. Оба направления с разной степенью активности разрабатываются в науках об обществе и человеке как относительно обособленные, фиксирующие различные грани бытия социального объекта. Первое, следуя за Куртом Левиным и Пьером Бурдье, фокусируется на связях, отношениях и символических позициях объекта в пространстве. Второе, восходя к работам Рене Тома, акцентирует внимание на объектных формах, изоморфных процессах, фигуральности и эквивалентности объектных моделей. Намечающийся в акторно-сетевой теории синтез теоретических позиций двух направлений топологии определяется как действенный способ понимания онтологии объектов сетевой природы и наиболее продуктивный методологический путь их топологического конструирования.
Топологическая концепция джона ло, изменчивость, гомеоморфность, формы пространственности, объекты в пространстве и "пространственные" объекты, аналитический инструментарий акторно-сетевой теории
Короткий адрес: https://sciup.org/14974838
IDR: 14974838 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2017.1.2
Текст научной статьи Развитие топологических воззрений в недрах акторно-сетевой теории
DOI:
Активно развивающаяся в современных науках о человеке и обществе сетевая теория демонстрирует сегодня неоднородность как онтологических оснований, так и используемого ей методологического аппарата. В самом общем виде она распадается на три основных направления: сетевой анализ, реляционную сетевую теорию и теорию «актор – сеть» [11]. И если аналитики и реляционисты, расходясь по ключевым вопросам сетевой се- мантичности, все же исходят из весьма близких представлений о сети как о некоем каталоге сетевых отношений связанных между собой социальных акторов, то акторно-сетевая теория (Actor-network theory, ANT) идет в деле осмысления сетевой проблематики совсем иной дорогой.
Посылки к возникновению ANT можно датировать рубежом 70–80-х гг. прошлого века. Опираясь на достижения семиотики (су- щественное влияние оказали идеи Альгирдаса Греймаса), Брюно Латуром предпринимается попытка согласовать в рамках социологии науки и техники природу и общество [12]. На протяжении 80-х гг. (помимо Латура, теоретической разработкой активно заняты Мишель Каллон, Джон Ло, Мадлен Акриш) формируется глоссарий, основные идеи «социологии перевода» и ирредукционистская методологическая установка. Последняя содержит прямой запрет определять акторов и их характеристики путем проведения различений «от противного» (деятельное/пассивное, живое/неживое, микро/макро и т. д.), ибо ничто не сводимо к чему-то другому [19, p. 158]. Позже прорабатывается язык и детализируется методология, апробируемая на многочисленных объектах. Современная акторно-сетевая теория представлена двумя крупными научными школами: Парижской, объединенной вокруг Латура и Каллона, и Ланкастерской, центральной фигурой которой остается Джон Ло. Первая сосредоточена на фундировании предельных оснований теории, вторую в большей степени интересуют семиотические и собственно топологические изыскания.
Сеть в проекции ANT предстает как «связанный ряд действий, каждый участник которых рассматривается как полноценный посредник» [9, с. 181]. Здесь важно подчеркнуть две мысли: во-первых, «действия» подразумеваются в особом, авторском понимании Латура и его последователей. Во-вторых, участниками этого действия, как известно, могут быть любые объекты – люди, тексты, предметы и технологии… Этот список открыт. Заметим, что тезис о равноправности «людей» и «не-людей» долгое время (покуда не прослыл постулатом ANT) являлся наиболее дерзким, если не сказать больше «скандальным», местом теории. Акторы (люди) и актанты (не-люди) участвуют в единых процессах, уподобляясь друг другу в глазах исследователя. При этом традиционная концепция действия представляется несостоятельной. Сама процедура уравнивания участников, каждый из которых включается в действие, строится на понимании обмена их свойствами. «Когда один действует, другие переходят к действию. Отсюда невозможность редуцирования актора к силовым полям или к струк- туре. Можно только участвовать в действии, разделять его с другими актантами. Это относится как к «производству» действия, так и к «манипуляции» им» [8, с. 189].
Для Латура принципиально было преодолеть бытующую в социальной теории дихотомию людей и вещей, живого как «деятельного» и неживого как «пассивного». Сам автор пишет об этом так: «Оба монстра родились в одно и то же время и по одной и той же причине: природа собирает не-человеков в отрыве от людей; общество же собирает людей в отрыве от не-человеков. Как я везде и всегда показывал, оба они – уродцы-близнецы, созданные, чтобы задушить саму возможность правильного собирания коллектива» [9, с. 230]. Коллективы/гетерогенные ансамбли/сети выступают у Латура, очевидно, как синонимы. При этом и люди, и не-люди одинаково способны быть сетевыми медиаторами. Важно, что последнему отводится независимая роль не только транслятора, но и креативной сущности [24, S. 313]. Пресловутая «лаборатория Латура» стала своеобразной социологической притчей и наглядным пособием в понимании сетевого посредничества, произведя ее автора в классики современной социологии. Возьмем на себя смелость утверждать, что, пожалуй, и из самой идеи агентности материального выросла и расцвела увлеченность акторно-сетевой теорией (о «точках роста» ANT и результативности такой работы в отечественной социологии см., например: [5]), хотя она, безусловно, много сложнее и вбирает в себя множество смелых идей. Именно подобная научная смелость дает мощный толчок для развития целого спектра уточнений, углубленных интерпретаций и сюжетных разворотов.
Прежде всего следует отметить особый метод, используемый исследователями данного направления. Он опирается на известное латуровское предписание, ставшее своеобразным девизом его последователей. «Следуйте за акторами, – призывает основатель акторно-сетевой теории, – просто описывайте наличное состояние дел» [9, с. 201]. Основывается метод на процедурах прослеживания социальных связей, так называемых «сборках» (конечно, имеются ввиду связи в оригинальной трактовке ANT). «Нам надо научиться останавливаться на каждом шагу», – советует классик [9, с. 32], однако из всего нагромождения предметов следует выбирать только те, что соизмеримы с социальными связями. При этом «мы должны одновременно принимать во внимание обе стороны, внося в свой список, каким бы длинным и неоднородным он ни получался, всех, кто принимает участие в работе» [9, с. 398]. Собранное формируется в отчет, главное требование к которому – быть точным, достоверным, интересным и объективным. Сами отчеты так же встроены в социальное, как и прочие артефакты. «Может ли материальность отчета, сделанного на бумаге, история или даже фикция – нет необходимости отказываться от слова, которое так близко к фабрикации фактов, – распространить исследование социальных связей чуть дальше? За движением посредников нужно следовать все время - до последнего описания, поскольку цепь настолько слаба, насколько слабо ее последнее звено. Если социальное – это след, то его можно проследить; если это сборка, то ее можно пересобрать» [7, с. 180].
Одним из способов понимания, «прослеживания и пересборки» социальных объектов является топологическая концепция Джона Ло, в оформленном варианте увидевшая свет в конце двадцатого века. Отметим, что топологический взгляд с разной степенью активности развивается в социальных науках с середины прошлого столетия, демонстрируя при этом весьма разнородные теоретические основания. Условно можно выделить два магистральных направления, названных нами топологией пространства (пространственной топологией) и топологией формы.
Первое, наиболее востребованное сегодня, стоит на позициях, заложенных работами Курта Левина (например: [23]) и Пьера Бурдье [1]. Ее основным интересом является прослеживание и понимание связей, отношений и символических позиций исследуемого объекта в пространстве социального. В сетевой теории данная позиция получила наибольшее распространение в рамках направления, использующего особый метод графического наглядно-пространственного изображения взаимодействия акторов и получившего название «анализ социальных сетей» (social network analysis, SNA).
Второе в своем основании опирается на примеры переноса автором теории катастроф (восходящей, в свою очередь, к теориям бифуркаций и динамических систем) Рене Томом достижений математической топологии в нематематические области (точнее, в биологию и лингвистику) [15; 16]. Выделяемые модели биологических форм и морфологии – архетипы – снабжены Томом внутренней размерностью, позволяющей мыслить их как топологические пространства и производить аналитические операции, основанные на изоморфных процессах, фигуральности и эквивалентности. Такой подход существенно расширил не только области затронутых наук, но и предопределил изыскания в других нематематических областях, указав возможный путь разрешения общефилософских проблем качественной оценки объектов сложной, неоднородной природы. В сетевой теории подобный способ понимания пространственных деформаций форм, их моделей и изменчивостей наиболее близко перекликается именно с топологическими взглядами Джона Ло.
По словам исследователя, основная цель его работы – это «денатурализация сетевого пространства и сетевых объектов как созданных, производных и фокусировка на топологически множественных объектах, существующих в качестве пересечений или точек интерференции различных пространств – регионов, сетей и потоков» [10, с. 241]. Толкуя объекты в духе ANT как «неизменные мобильности», как производные некоторых устойчивых множеств или сетей отношений [10, с. 223], Ло идет по пути топологического осмысления различных форм пространственности, от которых в конечном счете зависит гомеоморфность объектов [3, с. 27–28]. Раздвигая сложившийся в социологии пространственно-топологический способ мышления, Ло описывает сетевую пространственность посредством мыслительного пересечения различных пространственных систем. Достаточно при этом лишь ввести «внутренние координаты» для описания состояний тех или иных «актантов», и «можно найти пространственную интерпретацию для практически любых выражений» [16, с. 218].
Фактически Ло концептуализирует не объекты в пространстве, а «пространствен- ные объекты». «Акторно-сетевая теория настаивает на пространственном понимании объектов и объектном понимании пространств, населенных и созданных этими объектами» [10, с. 240]. На растиражированном примере испанского галеона автор объясняет пространственность объекта, когда последний онтологически возможен только благодаря устойчивым и неразрывным связям как внутри себя, так и с другими объектами [4, с. 25]. Само производство объектов имеет пространственные следствия, а использование оформленных объектов – пространственные возможности. Иными словами, пространство выступает теперь не только как продукт отношений людей и вещей, но и как способ их организации.
Однако бытие объекта не ограничивается одним пространством: Джон Ло постулирует пространственную множественность. Объект существует, прежде всего, в географическом пространстве регионов, но также в пространстве сетей и в пространстве потоков [10, с. 223–244]. При этом, имея возможность передвижения в первом, он неизменен во втором и необходимо изменчив в третьем [3, с. 27–28]. Пространство регионов нам понятно и очевидно перекликается с идеями пространственной топологии, с двумя другими следует разобраться подробнее. Любой рассматриваемый объект, по утверждению Ло, может представлять из себя сеть. И он остается таковым, сохраняя свою гомеоморфность, только если внутрисетевые отношения устойчивы и «все сохраняется на своих местах» [10, с. 227].
Весьма любопытен пример Ло с австралийскими аборигенами, изгоняемыми со своих земель, которые они никогда не возделывали, но и не разоряли. Фактически, на взгляд европейца, они просто там «были», следовательно, эти земли можно было считать пустыми. Но аборигены видели мир иначе. Их космология не включает в себя землю как пространство, занятое и узурпированное людьми. Напротив, это – просто объективная данность. Мир, в том числе люди, но и то, что европейцы потом назовут топографическими особенностями: растения, животные, ритуалы и родовые тотемы, – они все необходимые участники процесса непрерывного созидания [22]. Таким образом, благодаря ансамб- лю отношений достигается сетевое единство объекта, названного «аборигенами».
Другой понятный нам пример: попробуйте оторвать рыбака от реки или земледельца от его участка земли. Всегда это – разрушение связей, в результате которых рыбак перестает быть рыбаком, а земледелец – земледельцем. Зачастую – скорая физическая смерть. Почему? Прежде всего, потому, что «рыбак» – это не только указание на определенный промысел, это и совокупность определенных ритуалов, связь с природными объектами, зависимость от погодных условий, единение со множеством людей и сопутствующих вещей, наконец, жизненная философия, заключенная в особые пространственно-временные координаты. Описанная сеть, являясь объектной сущностью, не может разорваться, подобное будет означать гибель, конец существования объекта, ведь абориген, рыбак или земледелец – не синоним человека, он – человек-в-собственном-мире. Но наличествует еще и сеть отношений с другими объектами, и мы понимаем, что «объекты, соединенные семиотическими отношениями, организуют особое материально-семиотическое пространство» [13, с. 39]. Так, весьма пропедевтически можно представить и объяснить, как создается сетевая пространственность.
Однако существует и совсем иное пространство, названное пространством потоков. Ло объясняет его смысл и содержание на примере зимбабвийского втулочного насоса как феномена нестабильной техники. Насос изготавливается в виде комплекта, который будет установлен только после того, как жителями – будущими потребителями воды – проведены необходимые работы (рытье земли и бетонирование). Идея состоит в том, что сельские жители должны организоваться в коллектив и взять на себя ответственность за установку и последующее техническое обслуживание насоса. Так насос, будучи техническим сооружением, становится одновременно еще и инструментом социальной инженерии.
Автором подчеркивается неспособность объекта существовать без множества сопутствующих условий: пробуренной скважины, необходимых измерений, инструкций и проб, местного сообщества, поддерживающего его работоспособность и т. д. «Короче говоря, эта текучесть, способность к изменению формы и переделыванию под ситуацию и является ключом к его успеху. Вывод состоит в том, что текучесть, изменчивость формы на самом деле не проблема сама по себе» [21, p. 81]. Более того, и это главное, «изменчивость насоса, его «нефиксированность» оказывается важным условием его эффективности: устройство легко трансформируется, приспосабливаясь к местным условиям». И «никакой фиксированной структуры, никакого жесткого определения» [10, с. 234–235]. Здесь изменение жизненно необходимо, ведь в случае стабилизации объект утратит гомеоморфность: в пространстве потоков распад объекта есть отсутствие его трансформаций.
Потоки, в свою очередь, способны сталкиваться, постепенно формируя сети, и, наконец, даже регионы. Здесь показательно исследование Николая Руденко, анализирующего эти процессы, и в конечном счете формирование «пространства знания» на примере культурного феномена Всемирных выставок XIX века. «Неисчислимое множество разноприродных объектов (актантов): экспонаты, люди, идеи, практики, социальные институты, документы – все они создавали хрупкую и подвижную вселенную Всемирных выставок <…>. Выставки порождались столкновением многочисленных потоков, постепенно формировавших сети и, наконец, регионы, оставшиеся в памяти людей в качестве одного из главных символов XIX века» [13, с. 47].
Подчеркнем, что регионы – единственные, находящиеся в евклидовом пространстве, – при таком топологическом анализе не имеют никакого приоритета, никакой первичности. Более того, указанный пример говорит об обратном: зачастую сами регионы оформляются посредством взаимодействия сетей и потоков. Скажем еще больше, ссылаясь на удачное высказывание Аннмари Мол: «акторно-сетевой подход представляет собой средство для борьбы с регионами» [10, с. 233]. Джон Ло уточняет при этом, что само «производство объектов всегда носит мультитопологический характер, своей “непрерывностью” объекты обязаны пересечению различных пространств» [10, с. 234]. Иными словами, все неизменно уча- ствует в создании всего, держится на всем и невозможно без всего.
Нельзя не отметить, что топологическая концепция Ло оказалась необычайно плодотворной, породив огромное количество эмпирических исследований. Только в России с привлечением описанного топологического инструментария анализируются, например, специфика высоких технологий [6], «различительные способности» университетов [14], указанный ранее феномен Всемирных выставок [13], работа общественного транспорта [17], катастрофы организации [18] и многое другое. И, конечно, обособленно стоит корпус работ Виктора Семеновича Вахштай-на, вносящего неоценимый вклад в дело популяризации и продвижения идей Джона Ло для русскоязычного научного сообщества. Вслед за ним можно смело утверждать, что и сам «пафос акторно-сетевого подхода заключен в переходе от «логики сети» к «логике потока», от неизменности к изменчивости. Значение материальных вещей именно в том, что, активно участвуя в человеческом взаимодействии, они способны изменять свои функции, преобразовываться во что-то другое, превращая пространственную мобильность в уайтхедовский процесс, в поток событий» [2, с. 113].
Из изложенного заключаем, что труды Джона Ло и его последователей представляют собой единственную на сегодняшний день, органично выстроенную и глубоко проработанную топологическую концепцию, имплицитно содержащую в себе посылки для синтеза двух топологических взглядов: топологии пространства и топологии формы. Полагаем, что подобный синтез не только возможен, но и неизбежен как наиболее продуктивный путь теоретико-топологического конструирования образов объектов сетевой природы. Конечно, в строгом смысле ни топология Ло, ни сама акторно-сетевая теория не являются теориями, менее всего претендуя на статус законченного учения. «Короче говоря, теория актор-сеть не вероучение или догма и в лучшем случае степень смирения является одним из ее интеллектуальных лейтмотивов» [20]. Сам Джон Ло, например, предпочитает называть направление, которое он развивает, «материальной семиотикой», что позволяет уловить ее открытость, разнонаправленность, настроенность на проекты различных по тематике исследований, с привлечением множества практик, мест, способов и ресурсов, указывающих на материальные знаки социального. Тем не менее именно акторно-сетевая теория впервые подошла к изучению сети в ее действии, «разворачивании», а не в качестве снятого конструкта или комплекса интерсубъективных смыслов. Кроме того, через собственное понимание концепции действия ANT вывела на новый уровень значимость «другого», определяющего любого участника сетевого отношения как действующего. А ирре-дукционистская установка, «обнуляя» онтологический статус действующих акторов, продемонстрировала ранее неизвестный взгляд на социальное мироустройство, раскрыла мощный потенциал исследовательских возможностей и породила уникальный аналитический инструментарий.
Список литературы Развитие топологических воззрений в недрах акторно-сетевой теории
- Бурдье, П. Социология социального пространства/П. Бурдье. -СПб.: Алетейя, 2007. -288 с.
- Вахштайн, В. С. Возвращение материального. «Пространства», «сети», «потоки» в акторно-сетевой теории/В. С. Вахштайн//Социологическое обозрение. -2005. -Т. 4, № 1. -С. 94-115.
- Вахштайн, В.С. Джон Ло: Социология между семиотикой и топологией /В.С. Вахштайн // Социологическое обозрение. -2006. -Т. 5, № 1. -С. 24-29.
- Вахштайн, В. С. Пересборка города: между языком и пространством/В. С. Вахштайн//Социология власти. -2014. -№ 2. -С. 9-38.
- Вахштайн, В. С. «Поворот к материальному»: тридцать лет спустя/В. С. Вахштайн//Социология власти. -2015. -Т. 27, № 1. -С. 8-16.
- Дедюлина, М. А. Высокие технологии и социальная топология/М. А. Дедюлина//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. -2011. -№ 2. -С. 80-85.
- Латур, Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества/Б. Латур. -СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. -414 с.
- Латур, Б. Об интеробъективности/Б. Латур//Социология вещей. -М.: Территория будущего, 2006. -С. 169-198.
- Латур, Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию/Б. Латур. -М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. -384 с.
- Ло, Дж. Объекты и пространства/Дж. Ло//Социология вещей: сб. ст./под ред. В. Вахштайна. -М.: Территория будущего, 2006. -С. 223-243.
- Мальцева, Д. В. Сетевой подход в социологии: генезис идей, современное состояние и возможности применения: дис.... канд. социол. наук/Мальцева Дарья Васильевна. -М., 2014. -177 с.
- Напреенко, И. В. Семиотический поворот в STS: теория референта Бруно Латура/И. В. Напреенко//Социология власти. -2013. -№ 1-2. -С. 75-98.
- Руденко, Н. И. Сети, знание и реальность: проблематика социальной топологии в концепции Джона Ло/Н. И. Руденко//Социология Власти. -2012. -№ 6-7 (1). -С. 38-51.
- Степанцов, П. М. Как «видят» университеты: от теории организаций к социальной топологии/П. М. Степанцов//Социология власти. -2012. -№ 4-5 (1). -С. 77-95.
- Том, Р. Структурная устойчивость и морфогенез/Р. Том. -М.: Логос, 2002. -288 с.
- Том, Р. Топология и лингвистика/Р. Том//Успехи математических наук. -1975. -Т. 30, вып. 1 (181). -С. 199-221.
- Шайтанова, Л. А. Социальная топология общественного транспорта: территория, сети, потоки (случай г. Волгограда)/Л. А. Шайтанова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9, Исследования молодых ученых. -2014. -№ 12. -С. 65-66.
- Щекотин, Е. В. Катастрофы организации: топологическая метафора/Е. В. Щекотин//Gaudeamus Igitur. -2015. -№ 4. -С. 54-59.
- Latour, B. The Pasteurization of France/B. Latour. -Cambridge: Harvard University Press, 1988. -292 p.
- Law, J. Actor Network Theory and Material Semiotics/J. Law. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.heterogeneities.net/publications/Law2007ANTandMaterialSemiotics.pdf (date of access: 15.11.2016). -Title from screen.
- Law, J. After Method: Mess in Social Science Research/J. Law. -Routledge: Taylor and Francis Group, 2004. -188 p.
- Law, J. What's Wrong with a One-World World/J. Law. -Electronic text data. -Mode of access: http://heterogeneities.net/publications/Law2011WhatsWrongWithAOneWorldWorld.pdf (date of access: 01.11.2016). -Title from screen.
- Lewin, K. Principles of topological psychology/K. Lewin. -N. Y.; London: McGraw-Hill book company, 1936. -360 р.
- Passoth, J.-H. Aktanten, Assoziationen, Mediatoren: Wie die ANT das Soziale neu zusammenbaut/J.-H. Passoth//Dimensionen und Konzeptionen von Sozialität. -Wiesbaden: VS, 2010. -S. 309-317.