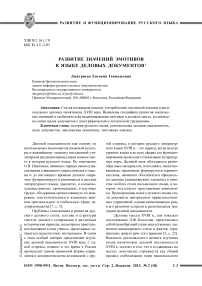Развитие значений эмотивов в языке деловых документов
Автор: Дмитриева Евгения Геннадьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (18), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу употребления эмотивной лексики в региональных деловых памятниках XVIII века. Выявлены специфика развития лексических значений и особенности функционирования эмотивов в деловом тексте, установлены связи языка документов с агиографической и летописной традициями.
История русского языка, региональная деловая письменность, язык документов, лексическая семантика, эмотивная лексика
Короткий адрес: https://sciup.org/14970191
IDR: 14970191 | УДК: 811.161.1’0
Текст научной статьи Развитие значений эмотивов в языке деловых документов
Деловой письменности как одному из неотъемлемых компонентов языковой культуры и важнейшему элементу письменной утилитарной традиции принадлежит важное место в истории русского языка. По замечанию О.В. Никитина, начиная с первых веков существования славянского кириллического письма и до настоящего времени деловое «наречие» функционирует и развивается в системе литературного языка, диалектах, в словеснохудожественных произведениях и научных трудах, обслуживая организованную по жанровым, текстологическим и языковым законам оригинальную и стабильную сферу делопроизводства [7, с. 3].
Проблемы становления и развития русского делового стиля, состава и структуры текстов делового содержания в различные исторические периоды, несмотря на пристальное внимание к ним ученых, продолжают оставаться недостаточно изученными. В связи с этим особый интерес представляет изучение деловой письменности XVIII века. С одной стороны, именно в это время в России происходит замена приказной формы управления и делопроизводства коллежской; с дру- гой стороны, в истории русского литературного языка XVIII в. – это период, когда на всех уровнях языка и во всех сферах его функционирования происходит становление литературных норм. Деловой язык обогащается разнообразным материалом, пополняясь заимствованиями, терминами; формируются термино-системы; начинают обособляться официально-деловые (канцелярские) элементы в качестве особого стиля письменного языка, в котором отсутствуют просторечные компоненты. Проводниками нового делового языка стали документы центральных правительственных учреждений, однако немаловажную роль в его развитии сыграли и региональные традиции деловой письменности.
Деловые тексты XVIII в., как показало исследование Л.Ф. Копосова, представляют собой своеобразный сплав искусственных элементов канцелярского стиля и фактов, отражающих живую речь того времени [5, с. 22]. Важность регионального аспекта изучения языка памятников деловой письменности XVIII в. состоит в том, что в создаваемых на местах документах отражается как общий процесс стабилизации норм национального русского языка, так и действие узуальных норм делового стиля, определяемых социолингвистической и социокультурной спецификой функционирования этих документов в данном регионе [6, c. 12].
Несмотря на возросший интерес к изучению памятников региональной деловой письменности, по мнению О.А. Горбань, остается малоизученным целый пласт документов, созданных в канцеляриях такой значительной административно-территориальной единицы, как область Войска Донского, характеризующейся этническим и языковым своеобразием [2, с. 11].
Материалом для нашей работы послужили рукописные документы области Войска Донского, относящиеся к архивному фонду № 332 «Михайловский станичный атаман» (1734–1837 гг.) и хранящиеся в Государственном архиве Волгоградской области (далее – ГАВО). Объектом исследования являются употребленные в названных текстах эмотив-ные лексемы.
Предпринятое нами ранее исследование формирования семантики древнерусских и старорусских эмотивных глаголов выявило, что ядро этой группы сложилось уже в древнейшую эпоху. Языковой материал памятников XI–XVII вв. показывает, что данное семантическое множество активно пополняется, в том числе за счет деривационных семантических изменений глаголов других лексико-семантических классов. В отличие от относительного разнообразия процессов семантической деривации, приводящих к расширению числа эмотивных глаголов, случаи семантической деривации, в которых в качестве мотивирующих выступали бы сами эмотив-ные глаголы, крайне редки. В житийных текстах подобные семантические изменения в смысловой структуре рассматриваемых языковых единиц не зафиксированы [4, с. 20]. Однако в летописном тексте все же встречаются глагольно-именные сочетания, по отношению к которым можно говорить о семантической деривации [3, с. 16].
Обращение к памятникам деловой традиции, созданным как в центральных, так и в местных учреждениях, позволило расширить наблюдения над семантикой и функционированием эмотивной лексики, прежде всего, по- тому, что отмеченные случаи употребления эмотивных лексем, с одной стороны, продолжают традиции древнерусской и старорусской книжности, а с другой – отличаются подлинным своеобразием.
Частотным в исследуемых документах является существительное гнев . Корень - uy4d -уже в дописьменный период приобретает семантику эмоционального переживания, которая реализуется в лексемах с данным корнем, фиксируемых в памятниках письменности древнерусского и старорусского периодов.
Так, эмоциональное состояние гнева означал глагол hfpuy4dfnbc5 «разгневаться, рассердиться» (Срезн., т. 3, с. 30), номинирующий замкнутый в сфере субъекта процесс эмоционального переживания, который представлял собой отрицательное чувство высокой степени интенсивности, отнесенное к субъекту. Приставка указывала на становление процесса.
Данная лексема широко употребляется в летописных и житийных текстах древнерусского и старорусского периодов, например:
B hfpuy4dfcz yf nsÁ j;‘ nj uhf,bkb Lfymckfdf b Yjplhmx.Á b yf cjxmcrfuj yf CnfdhfÁ b pfnjwb z dcz
(ЛН XIII, л. 9 об. – 10);
Gj c‘v ;’ hfpuy4dfcz wfhm
Рассматриваемый глагол в большинстве случаев сочетается с конкретным, одушевленным существительным, выражающим субъект и обозначающим лицо, имеющее высокий социальный статус. Например: Gjy‘;‘ ve; ndjb d‘kmvb hfpuy‘dfcz yf nzÁ [jo‘n nz vexbnb ,‘p vbkjcnb (ЖЗС, л. 291). В приведенном контексте заслуживает внимания тот факт, что глагол hfpuy4dfnbc5 обозначает состояние-отношение, выступающее причиной, обоснованием последующего жестокого обращения (действия): Hfpuy4dfnbcz yf ym b ,bnb b (ЖФП, л. 2; Срезн., т. 3, с. 30); Hfpuy4dfdi‘c5 ;‘ ry5pb yf 2‘h‘v2.Á ,bif ’uj, b d] n’vybw/ dd’hujif: yj gfrb gjckf,k‘yj v/ ,scnm (ЧМ, л. 19). Указание на следствие эмоционального состояния, а также контекстуальный уточнитель d‘kmvb служат для усиления передачи интенсивности переживания. Однако столь интенсивное отрицательное чувство негативно оценивается автором, на что указывает другой уточнитель образа действия – ,‘p vbkjcnb, то есть без жалости, без милосердия. Такое эмоциональное переживание ведет к жестоким поступкам, а порой и к убийству: njulf -hfpuy4dfyys[] k.lb cdjb[] 2/l‘3d]Á cd5nsb 2‘h‘v2f rfv‘y2‘v] gj,2‘y] ,sd] =vh‘ (ЧМ, л. 28) – и характеризует персонажа с отрицательной стороны.
Сближение эмоционального переживания и действия, а также перенос оценочных доминант находим в житийных контекстах, в которых лексема hfpuy4dfnbc5 может употребляться для создания отрицательной характеристики лиц, даже если они не являются субъектами данного состояния. Речь идет об особых ситуациях описания гнева Божия, например: Hfpuy4dfdc5 =,j uñlm yf k.lb ns5Á ujnjd5i‘ bv] crjhj‘ hfpjhy2‘ b gju/,ky2‘Á ‘;‘ gjrfpf 2‘hv2b xh‘p ;‘pk] jh4[jdsbÁ b rjyj,] gjl;buf‘vsb (ЧМ, л. 6). Чувство гнева оценивается в христианской традиции как греховное, однако в приведенном житийном контексте способностью переживать данное чувство наделяется высшая сущность. Н.А. Бердяев писал по этому поводу: «Богу... нисколько не боятся приписать гнев, ревность, месть и пр. аффективные состояния, которые считаются предосудительными для человека. Существует глубокая пропасть между пониманием человеческого совершенства и Божественного совершенства» [2, с. 41].
В приведенном контексте эмоциональное переживание, обозначаемое употребленной в прямом значении лексемой hfpuy4dfnbc5 и относящееся к субъекту, выраженному существительным uñlm , выступает причиной для последующих отрицательных событий. Так как вершителем данных событий является Бог, то отрицательная оценка становится частью характеристики лица, вызвавшего это состояние-отношение, а последующие события оцениваются как справедливая кара за греховное поведение.
В Копии с копии Указа о правилах проезда через почтовые станции войска Донского от 23 октября 1739 г. находим один из типовых контекстов: подопасениемъ нш[ег3] импе-ратирскаги величества гнева и воинского суда аповажно… дпотерянием живота (ГАВО. Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 2, л. 2). В словарях существительное гнев отмечено в значениях: «оказывание в высокой степени негодования за причиненное нам озлобление» (САР, т. 2, с. 133); «негодование»: <Панноны> быша з ло кр пки и силны, от природы приклонны ко гн ву. Кн. историогр. 134. (СлРЯ XVIII, вып. 5, с. 139). На субъект эмоционального переживания – лицо, имеющее особый социальный статус, – указывают словоформы императoрскагo величества, употребленные в форме родительного падежа без предлога, выражающей значение «производитель действия» конструкции.
Таким образом, можно сделать вывод, что документ отражает тенденцию сближения личностного (эмоционального) и социального начал, когда, с одной стороны, носителем эмоции выступает лицо социально значимое, а с другой – чувство гнева перестает характеризовать его носителя и обращается на объект, выступающий в данном случае образцом отрицательно оцениваемой модели поведения. В этой модели гнев представлен как справедливое воздаяние, как чувство, подразумевающее действие, а правитель (император, императрица) изображается носителем справедливой, Божественной по своей природе, власти.
Отметим, что в «Словаре Академии Российской» фиксируется устойчивое выражение гнев Божий , обозначающее «естественное, но чрезвычайное происшествие, бедствие нам наносящее» (САР, т. 2, с. 133). Как видно из словарной дефиниции, эмотив-ный компонент в значении существительного гнев стирается, происходит утрата эмотивно-го значения. Представляется возможным говорить, что характеризующие деловой текст употребления типа императ и рскаг и величества гнева (ГАВО. Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 2, л. 2; и др.) тоже являются речевой формулой, формирующейся, по-видимому, под влиянием выражения гнев Божий . В данном случае происходит замена эмоциональных смыслов социальными.
В рассмотренных деловых документах встречаем и другие примеры сближения эмо-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ционального состояния и социального отношения / действия. В подорожной по сопровождению колодника находим следующий контекст: б t»глецъ семенъ никиeор3въ прозванием мя-кишевъ: которои sапобt»гъ настрах другимъ ввойсковом кругу битъ плетми (ГАВО. Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1).
Существительное страх отмечено в «Словаре Академии Российской» в значении «ужас, беспокойство воображением наступающего зла, несчастие в душе возбужденное» (САР, т. 5, с. 859). В этом значении оно номинирует замкнутый в сфере субъекта процесс эмоционального переживания, который представлял собой отрицательное чувство высокой степени интенсивности, отнесенное к субъекту.
В приведенном контексте анализируемое существительное употреблено в синтаксической функции обстоятельства цели. При этом уточняемое действие ( битъ плетми ) описывает наказание, то есть социальное действие. Это позволяет говорить о том, что в данном случае речь идет не только о страхе как эмоциональном состоянии, а о покорности как выражении социального отношения. Целью наказания было не просто напугать, а обеспечить реализацию поощряемой модели поведения – послушания. Значение «послушание» фиксируется в словарях, при этом в качестве примеров приводятся сочетания страх Божий , страх Господень (САР, т. 5, с. 859), отсылающие нас вновь к традициям церковной книжности.
Таким образом, проведенный анализ использования эмотивной лексики в документах области Войска Донского позволил сделать ряд выводов относительно особенностей семантики и функционирования эмотивов в деловых памятниках XVIII века. Специфика рассмотренных лексем проявляется, во-первых, в тенденции к сближению семантики эмоций и социальных отношений и, как следствие, развитии переносных лексических значений; во-вторых, в смене субъектно-объектных доминант эмоциональных состояний, приводящей к тому, что эмоциональные переживания характеризуют не их носителей, а лиц или события, которые стали его причиной; в-третьих, в сохранении и развитии традиций речевого употребления, сложившихся в рамках агиографических и летописных текстов; в-чет- вертых, в появлении устойчивых речевых формул, характеризующих деловой язык.
Список литературы Развитие значений эмотивов в языке деловых документов
- Бердяев, Н.А. О назначении человека/Н.А. Бердяев. -М.: ТЕРРА: Кн. клуб: Республика, 1998. -384 с.
- Горбань, О.А. Композиция и языковые особенности документов канцелярии правительства области Войска Донского/О.А. Горбань//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2012. -№ 2 (16). -С. 11-16.
- Дмитриева, Е.Г. Изменения смысловой структуры глаголов эмоций в древнерусском тексте/Е.Г. Дмитриева//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2010. -№ 1 (11). -С. 14-19.
- Дмитриева, Е.Г. Характерологическая функция эмотивной глагольной лексики в житийном тексте: автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.01/Дмитриева Евгения Геннадьевна. -Волгоград, 2005. -22 с.
- Копосов, Л.Ф. Изучение истории русского языка по памятникам деловой письменности/Л.Ф. Копосов. -М.: МОПИ им. Н.К. Крупской, 1991. -83 с.
- Майоров, А.П. Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII века/А.П. Майоров. -М.: Азбуковник, 2006. -263 с.
- Никитин, О.В. Деловая письменность в истории русского языка (XI-XVIII вв.): автореф. дис.. д-ра филол. наук: 10.02.01/Никитин Олег Викторович. -М., 2004. -47 с.