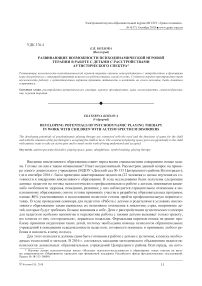Развивающие возможности психодинамической игровой терапии в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра
Автор: Козлова Екатерина Васильевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Молодые психологи-исследователи в образовании: поиск ответов на вызовы современности
Статья в выпуске: 4 (57), 2018 года.
Бесплатный доступ
Развивающие возможности психодинамической игровой терапии связаны непосредственно с потребностью и функциями игры для ребенка и с ситуацией принятия психологом ребенка таким, какой он есть. Созданное игровое пространство дает возможность ребенку с аутистическими чертами проявить активность и настоять на своем желании, быть понятым и принятым.
Расстройства аутистического спектра, игровое пространство, игра, всемогущество, символообразование, игровая терапия
Короткий адрес: https://sciup.org/148310950
IDR: 148310950 | УДК: 376.4
Текст научной статьи Развивающие возможности психодинамической игровой терапии в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра
Введение инклюзивного образования ставит перед всеми специалистами совершенно новые задачи. Готовы ли они к таким изменениям? Ответ неоднозначный. Рассмотрим данный вопрос на примере одного дошкольного учреждения (МДОУ «Детский сад № 155 Центрального района Волгограда»), где в сентябре 2016 г. было проведено анкетирование педагогов (22 человека) с целью изучения их готовности к внедрению инклюзивного образования. В ходе исследования были получены следующие данные: педагоги не готовы психологически и профессионально к работе с детьми, имеющими какие-либо особенности здоровья, поведения, развития; у них наблюдается отрицательное отношение к инклюзивному образованию; они не готовы принимать участие в разработке образовательных программ; однако 86% участвовавших в исследовании педагогов готовы пройти профессиональную переподготовку. В ходе проведения семинара для педагогов «Работа с детьми и родителями в условиях инклюзивного образования» также выявилось их негативное отношение к инклюзии, страх, непринятие детей, которые будут требовать больше внимания к себе. Дети с расстройствами аутистического спектра для педагогов особенно непонятны и перспектива работы с такими детьми вызывает только тревогу, им хочется от них «отгородиться», держаться подальше. Формальная переподготовка не решит проблему принятия педагогами таких детей, поэтому необходима помощь психологов образовательных учреждений в повышении осведомленности педагогов, готовности понимать и принимать любого ребенка и находить к нему подход.
Для этого психологи должны сами быть готовыми к работе с детьми с аутизмом, к поиску необходимых технологий и методов. В 2016 г. состоялось заседание методического объединения педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений Центрального района Волгограда, на кото ром было получено больше вопросов, чем ответов. Речь идет не о нормативно-правовых аспектах и документации, а о том, какие формы и технологии можно использовать при работе с семьей и ребенком в рамках инклюзивного подхода. В 2017 г. одно из заседаний методического объединения было посвящено особенностям работы педагога-психолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в зависимости от типа нарушений, в частности, особенностям работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. Опыт работы с такими детьми также был обобщен и представлен в 2017 г. (при поддержке МУДПО «Центр развития образования Волгограда») на городском семинаре-практикуме «Основы недирективной игровой терапии как коррекционный метод с детьми с ОВЗ».
Это расстройство встречается все чаще, особенно так называемый парциальный аутизм или «атипичный аутизм» (по распространенным данным – более 1% детей в мире). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество детей с этим диагнозом растет на 13% в год. По американской статистике подобные расстройства встречаются у одного из 68 детей. Однако особенностью аутизма является то, что его трудно диагностировать и особенно трудно лечить, до сих пор отсутствуют разработанные теоретические обоснования причин возникновения данного расстройства.
Интерес к детям с аутизмом появился очень давно, но до середины XX в. таким детям ставили диагноз шизофрения и изолировали от других людей. Первым, кто исследовал это расстройство, кто его описал и дал ему название был Лео Каннер (1943 г.). Однако он считал, что аутизм имеет врожденный характер. В своей работе «Аутистические нарушения аффективного контакта» он обобщил материалы, полученные в ходе наблюдения за младенцами и детьми, а также отметил, что такие дети боятся перемен, имеют своеобразные ритуалы, стереотипы в выборе одежды, еды и пр., находятся в постоянном состоянии некоего одиночества [14]. Выделенные Л. Каннером основные признаки аутизма легли в основу современного подхода к его диагностике.
Согласно пятому изданию Диагностического и статистического руководства по психическим болезням (DSM-5) [6] и Международной классификации болезней (МКБ 10) основными признаками расстройств аутистического спектра можно назвать следующие [10]:
‒ трудности во взаимодействии и коммуникациях (проблемы в поддержании диалога; сложности в вербальной и невербальной коммуникации, в установлении зрительного контакта; отсутствие интереса к сверстникам; невозможность участия в играх с детьми или играх, где необходимо воображение);
‒ повторяющиеся паттерны поведения, стереотипные движения, слова и игры (эхолалия; повторение услышанных ранее фраз, например, из мультфильмов; предпочтение в определенном порядке вещей; ритуализация; интерес и привязанность к необычным предметам; особенности восприятия сенсорной информации).
Под расстройствами аутистического спектра понимают все расстройства, родственные аутизму: синдром Аспергера, атипичный аутизм и др. Данное расстройство может сопровождаться умственной отсталостью и нарушениями речи, а может не сопровождаться, также особенностью является то, что физическое развитие обычно лучше, чем психическое. У таких детей могут наблюдаться ярко выраженные творческие способности, у них высоко развита память (они могут цитировать целые отрывки из мультфильмов или книг). Их игра, как правило, носит предметно-манипулятивный характер (что меняется в ходе работы с ними). Центральная нервная система (ЦНС) сформирована и у них остается потенциал для тех или иных действий и способность к приобретению личностных особенностей [1].
Важно отметить, что у каждого ребенка с данным расстройством можно наблюдать комплекс различных проявлений, эти дети отличаются друг от друга (интеллект может быть сохранен или нет, привязанность к матери присутствует или отсутствует и пр.), причины возникновения аутизма разные, но имеют, так или иначе, общее основание.
Существует множество гипотез относительно причин возникновения аутизма. Одной из них долгое время было предположение о том, что аутизм является результатом осложнения после вакцинации ребенка от кори, краснухи, паротита, но данная версия была опровергнута. Такие причины, как наследственный фактор, нарушение функционирования мозга также не подтверждаются в исследованиях.
Рассмотрим психоаналитический взгляд на проблему аутизма. Э. Берн, Б. Беттельхейм, Д.В. Вин-никотт, Т. Огден, Ф. Тастин причиной аутизма видят нарушения ранних отношений ребенка с первичным объектом (матерью или человеком, ее заменяющим), т. е. это как форма защиты от столкновения с чем-то неприятным и пугающим в реальности (примитивная изоляция). До 4–6 месяцев ребенок воспринимает окружающее и других людей как часть самого себя, как часть своего тела, он не дифференцирует себя от матери. В таком возрасте ребенок очень ревностно относится к желаниям, интересам матери, ведь она должна принадлежать только ему, у нее не должно быть ничего кроме него [5], но у некоторых людей остается такое отношение к миру и дальше.
Б. Беттельхейм в своей книге «Пустая крепость. Детский аутизм и рождение Я» очень подробно рассматривает те факторы, которые влияют на возникновение аутизма у детей. Он говорит о том, что некоторые дети так и остаются на таком же уровне эмоционального развития, что и младенцы, а некоторые туда возвращаются по особым причинам [1]. Почему же человек может стремиться в этот период своего развития? Ш. Ференци говорил о всемогуществе младенца, о «потерянном рае» и мечте туда вернуться [13]. В периоде младенчества все наши желания исполнялись (при условии заботы матери, которая угадывала и удовлетворяла все его желания и потребности). Однако, в отличие от жизни в утробе, где было действительно полноценное всемогущество, ведь ребенок имеет все, что ему необходимо и для этого ему ничего не нужно делать, в младенчестве удовлетворение потребностей требует все больше и больше активности со стороны ребенка. Основываясь на опыте работы с аутичными детьми, Б. Беттельхейм выдвигает предположение, что такие дети не нуждаются в пассивном удовлетворении, они нуждаются в поддержке их собственной активности для удовлетворения своих потребностей [1]. В ходе работы с ними терапевтам удалось или создать условия, или спровоцировать их на действия в своих собственных интересах.
Отдельно рассмотрим кормление и его роль в развитии ребенка и его отношений с собой и окружающими, с точки зрения психоанализа. Б. Беттельхейм и Д.В. Винникотт отводят этому процессу большое значение. Для ребенка это должен быть активный процесс, уже здесь он проявляет самостоятельность во время взаимодействиями с другим человеком. Если ребенка оберегают от активности или же его действия не находят отклика, т. е. становятся бесполезными, это может вызвать ощущение бессилия и привести к дальнейшему отказу от активности. Б. Беттельхейм отмечает: «…его начинает переполнять бессильный гнев, а сам он превращается в беспомощную жертву внутреннего напряжения» [Там же, с. 18]. Б. Беттельхейм большое внимание уделял активности, автономии ребенка, в отличие от других исследователей. Такое совместное действие матери и ребенка, как кормление грудью формирует доверие или недоверие к себе и другим людям (по Э.Х. Эриксону, это – базовое доверие или недоверие). В этом процессе происходит взаимное удовлетворение потребностей, эмоциональная и физическая разрядка. Очень важен эмоциональный контакт матери и ребенка в процессе кормления, Д.В. Винникотт очень подробно исследовал данную проблему. Искусственное кормление по часам приводит к тому, что ребенок не способен сам повлиять на этот процесс: его плач, улыбка или другое действие не влияют на активность мамы и на его кормление [4].
Что касается дальнейшего развития ребенка, Б. Беттельхейм говорит о том, что наблюдаются две крайности: родители или не дают ребенку проявить активность, или требуют от него активности и самостоятельности слишком рано [1]. Это относится и к кормлению из ложечки, и к процессу дефекации: есть ли у ребенка возможность пытаться управлять этими процессами, проявлять свою волю, быть активным или же присутствует жесткий контроль взрослых, а ребенок пассивно им подчиняется. Это – очень важный этап развития ребенка, позволяющий разграничивать «Я» и «не Я», учиться управлять своим телом. Кроме того, важно, как именно происходит этот процесс приучения к туалету. Психоаналитики сходятся во мнении: чтобы этот процесс происходил не травматично для ребенка, без атаки на его автономию, необходимо создать условия, чтобы ребенок сам захотел сделать это ради любимого человека и для того, чтобы быть похожим на взрослых или старших детей. Ребенок получает удовлетворение от того, что сам может это делать, без взрослых. В связи с этим, при работе с аутичными детьми важно, чтобы они смогли начать действовать как в своих интересах, так и в интересах других людей [1].
Б. Беттельхейм выделяет три критических, опасных периода для возникновения аутизма: 6 месяцев, с 6 до 9 месяцев, с 18 месяцев до 2 лет. В эти периоды, по мнению исследователя, психика наиболее чувствительна к влиянию извне. Рассмотрим кратко каждый из них. В период развития ребенка, предшествующий так называемой тревоге восьмимесячных (Рене Спитц), важно, чтобы ребенок смог доверять миру, не сталкивался с чем-то невыносимо пугающим. Если потребности не удовлетворяются в должной мере, то ребенок может отказаться от активности, уйти от взаимодействия. В период от 6 до 9 месяцев ребенок учится узнавать, идентифицировать близких людей от прочих. В этом периоде развития незнакомые люди могут вызывать тревогу. Он учится дифференцировать своих от чужих, также как постепенно и себя от других людей. Если не будет возможности получить внимание, заботу и любовь от значимых людей, он может в дальнейшем отказаться от таких попыток. В периоде около 18 месяцев ребенок имеет возможность проявлять все большую активность, он может уже оказывать непосредственное воздействие на других людей и мир вокруг. Ребенок может перемещаться в пространстве, учится управлять своим телом. В этот период опасным является фрустрация активности ребенка. Как правило, аутистические черты начинают замечаться взрослыми именно в это время [1].
М. Маллер внесла большой вклад в развитие теории объектных отношений. С ее точки зрения, аутизм может появиться как раз в такой важный период развития ребенка, как период сепарации-индивидуации. Аутизм – результат тревоги, которая возникла в ответ на какую-то серьезную угрозу. Она выделяет два типа аутизма: досимбиотический и симбиотический.
Для младенца важно, чтобы его потребности удовлетворялись, это происходит благодаря заботе «достаточно хорошей матери», по мнению Д.В. Винникотта [4]. Если у него будет в то же время возможность проявлять активность в исследовании этого мира, то он будет воспринимать мир как источник удовлетворения своих потребностей и себя в центре всего происходящего. Аутичный ребенок, видимо, остается в этом состоянии, в силу или неспособности взрослых обеспечить ему это ощущение всемогущества и безопасности, или в попытке это вернуть, столкнувшись с сильнейшей фрустрацией (например, опыт госпитализации, лечения зубов, сильный испуг).
В соответствии с психоаналитическим подходом, если слишком рано ребенок понимает, что мир не безопасен, это формирует аутистический зачаток, такой ребенок отказывается быть активным дальше: эмоционально, социально, иногда и интеллектуально перестает развиваться. Он не хочет сталкиваться с угрожающим, опасным миром, защищается уходом в аутистическое состояние. В другом случае, потребности ребенка в целом могли удовлетворяться, но позиция мамы была недостаточно эм-патичная, мать не воспринимала ребенка как личность, не принимала его желания, его активность. Тогда при столкновении с окружающей реальностью и с необходимостью проявлять самостоятельность, ребенок выбирает аутистическую позицию, отказ от взаимодействия с другими при сохранении внешней привязанности к матери. Такой ребенок обычно очень «удобный» (по крайней мере, до начала терапии), он пассивен, спокоен, обычно занят гаджетами, музыкальными игрушками или творчеством. Как правило, это поддерживается матерями, осознанно или бессознательно (в нашей практике в 100% случаев), матерям «выгодно», чтобы ребенок в них крайне нуждался, не был способен к самостоятельной жизни. Такие матери могут очень долго воспринимать ребенка как часть себя, это можно заметить, например, по тому, как они говорят «мы» про своего ребенка (хотя ему может быть 5, 9 и больше лет). Часто это – семьи с отсутствующим отцом или с отцом, не включенным в семейные процессы, в воспитание ребенка, с пассивным отцом (одной из важных функций отца является как раз помощь ребенку отделиться от матери, как говорил Ж. Лакан: «забрать свою женщину себе от ребенка» [9]). Это – матери, которые поглощены этими диадными отношениями с ребенком, вся их жизнь сводится к этому, а ребенок, как правило, лишен возможности контактировать с социумом. Такие матери всегда после проведенных сессий игровой терапии с ребенком интересуются тем, что он на них делал, они пытаются контролировать весь процесс работы с ребенком, могут сопротивляться процессу пси- хотерапии, даже забрав ребенка из нее (например, когда увидят, что ребенок стал более самостоятельным и независимым от них).
Анализируя собственный опыт работы с детьми и подростками, имеющими расстройства аутистического спектра можно отметить следующее (в расчете из 10 случаев):
‒ фиксация психосексуального развития на анальной стадии наблюдалась в 90% случаев;
‒ специфика кормления грудью (неприятные ощущения матери, нежелание матери, отсутствие эмоционального контакта и контакта глаз во время кормления, короткий период кормления грудью или его отсутствие) наблюдалась в 60% случаев;
‒ 90% матерей таких детей находились в симбиотических отношениях с ними, у 10%, наоборот, отсутствовал эмоциональный контакт и близость с ребенком;
‒ в 100% случаев активность детей не поощрялась или не поддерживалась;
‒ у 70% таких семей отец или не участвовал полностью в жизни ребенка, или находился в пассивной позиции по отношению к нему.
Данные, полученные с помощью психоаналитической беседы, сбора анамнестических данных у 10 семей соотносятся с психоаналитическими представлениями о природе аутизма и факторах, которые могут оказывать влияние на его возникновение.
Таким образом, согласно психоаналитическим представлениям, в основе возникновения аутизма лежит столкновение ребенка с пренебрежением своими потребностями и с уверенностью в том, что невозможно никак повлиять на людей, которые о нем заботятся и на мир в целом. Или такой вариант ухода от реальности связан с ситуацией стресса, когда единственным вариантом справиться с этим становится такой защитный механизм как примитивная изоляция. Можно выделить некоторые факторы, которые могут к этому привести: нежелание матери иметь этого ребенка (также, например, одного из близнецов), депрессия матери, расставание с матерью на какой-то период, кормление по часам, неспособность матери понимать потребности младенца, жесткие требования, запрет на активность, фрустрирующие ситуации (испуг, медицинские процедуры) и др. Согласно Ф. Дольто, развить в ребенке самостоятельность – это не значит автоматизировать его навыки, это значит дать ему свободу и научить ею обладать, это не значит быть безразличным, это значит довериться ему [8].
Как же можно помочь этим детям выйти из «страны теней»? [1] Чем может помочь специалист? С точки зрения Б. Беттельхейма, «Все, что мы можем предложить ребенку – это принять его в его одиночестве <…> Мы должны показать ему, что можем рискнуть сделать это вместе с ним, даже там, в самом низу – сделать то, что ему одному пока не под силу» [Там же, с. 40]. Одним из направлений работы с такими детьми может быть психодинамическая игровая терапия. Исследований в области применения данного направления в работе с детьми с аутистическими расстройствами автор не обнаружил. Рассмотрим основные особенности психодинамической игровой терапии и ее потенциал в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра.
Первым, кто начал говорить про детей в психоанализе, был З. Фрейд («Анализ фобии пятилетнего мальчика», «По ту сторону принципа удовольствия»). Его ученики не только изучали детство, но и работали с детьми, особое внимание уделяя игре: А. Фисдор «Детские игры как ранние симптомы болезненного предрасположения», З. Пфайфер. На их идеи опиралась Г. Хуг-Хельмут, которая также была одной из первых в психоанализе, кто изучал детство и отводил особую роль игре как в развитии ребенка, так и в качестве инструмента работы психоаналитика. Она также была первой, кто сравнил свободную игру ребенка со свободными ассоциациями взрослого человека, утверждая, что в детской игре проявляются желания, представления, влечения ребенка. Она рассматривала игру, в том числе как инструмент диагностики фазы психосексуального развития (каждой фазе соответствуют определенные игры).
А. Фрейд использовала игру на подготовительном этапе работы с ребенком, а вот ее оппонент М. Кляйн активно применяла игру на протяжении всего анализа. Она сравнивала каждое игровое действие ребенка со свободной ассоциацией взрослого и активно его интерпретировала, уже начиная с первой сессии. Она была первой, кто ввел такой элемент сеттинга*, как набор игрушек. Д.В. Винникотт играл вместе с детьми в процессе их анализа. Важным его теоретическим открытием являются понятия «переходного объекта» и «переходного пространства». Это нечто промежуточное между «Я» и «не Я», переходное пространство и позволяет ребенку дифференцировать себя от других объектов. Переходный объект позволяет ребенку сепарироваться от матери, выдержать разлуку. Часть детей с расстройствами аутистического спектра имеют переходные объекты, более того, у них наблюдается потребность в их постоянном присутствии в более старшем возрасте, чем у других детей (это могут быть игрушки, какие-то предметы, части предметов). В процессе игры появляется возможность для создания переходного пространства. В своей книге «Игра и реальность» Д.В. Винникотт пишет: «Психотерапия – там, где пересекаются пространство игры пациента и пространство игры терапевта. Психотерапия – это когда два человека играют вместе. Следовательно, там, где игра невозможна, работа терапевта направлена на то, чтобы перевести пациента из состояния, когда он не может играть, в состояние, когда он может это делать» [3, с. 62]. Это очень актуально для аутичных детей, способность к игре у которых может иметь нарушения. Б. Ди-польд расширила теорию Д.В. Винникотта и ввела понятие именно «игрового пространства» [7], которое специалист создает в процессе работы с ребенком (как варианта промежуточного пространства).
К. Абрахам, М. Кляйн, Ф. Дольто и ее ученики большое внимание уделяли процессу символо-образования как важного этапа развития психики. Это – перевод аффектов, представлений, желаний, влечений на символический уровень. Обычно эту функцию выполняет мать, по мнению У. Бион [2], она контейнирует чувства ребенка, переводя их на символический уровень. Если же ей это не удается или не удалось – эту функцию на себя может взять игровой терапевт.
Таким образом, переходное пространство создает условие для развития симвообразования, для возможности перевода психического содержания в символы и знаки. Конкретно, игровое пространство в условиях терапии способствует развитию символообразования, если этот процесс по каким-то причинам нарушен или искажен.
В игровой терапии создаются условия для безопасного отреагирования чувств (в том числе агрессивных), символического выражения бессознательных фантазий. На первых стадиях игровой терапии игры носят, как правило, нарциссический характер, дети удовлетворяют свою потребность в так называемом всемогуществе. Рассматривая ступени развития чувства реальности, Ш. Ференци обращает внимание на «детскую иллюзию величия», желание быть всемогущим (как когда-то реально в утробе матери) [13]. Желание всемогущества и ощущение себя таковым свойственно младенцам, но, по нашим наблюдениям, и аутичным детям, несмотря на их возраст. Такие дети будто бы ждут, что взрослые поймут их и без речи, что угадают их мысли и желания. Родители аутичных детей, как правило, так и делают: есть определенные знаки, которые подает ребенок и которые они могут идентифицировать (это касается в основном быта), таким образом, ребенок не сталкивается с необходимостью проявлять активность, настаивать на своих желаниях.
Таким образом, также важной частью работы игрового терапевта является создание условий для появления возможности принятия ребенком фрустраций. Развитие человека сопровождается ситуациями фрустрации, и если ребенка к этому готовят, предъявляют их в мягкой форме, то этот процесс проходит не так болезненно. Ф. Дольто с особым пониманием относилась к потребностям, желаниям, свободам и правам детей («На стороне ребенка»), но она также говорила о необходимости обучения детей ответственному отношению к себе и окружающему, принятию правил, законов, границ, о развитии ребенка как ряде испытаний. Если младенцу жизненно важно, чтобы все его желания исполнялись неукоснительно, то дальше, в процессе взросления, ребенок сталкивается с некими ограничениями, необходимостью ждать, или же и вовсе с невозможностью удовлетворения каких-то его желаний, и он уже больше способен это выдержать. Ф. Дольто называла это «символообразующей кастрацией», которая вызывает крайне неприятные ощущения [8]. Ограничения должны касаться нежеланий вообще, а способа их удовлетворения. В процессе развития ребенок сталкивается с реальностью того, что некоторые желания не могут быть воплощены в такой форме, как раньше (например, желание всемогущества), а некоторые и вовсе не могут воплощаться определенным образом (например, нельзя бить людей, когда злишься). Взрослые (в частности, психолог, игровой терапевт) могут предложить ему другие способы реализации этого желания, более «цивилизованные», «окультуренные», основанные на сублимации. Ф. Дольто отводила большую роль в этом процессе речи, языку (в кабинете терапевта фрустрации, которые переживает ребенок, проговариваются). В процессе психоаналитической работы, в том числе игровой терапии, специалист выполняет эту функцию, обучая, таким образом, ребенка новым способам реализации желаний, развивая способность выдерживать ограничения, правила. Работа с аутичными детьми происходит в этом плане несколько иначе, когда ребенок начинает настаивать на своих желаниях, это поддерживается уже само по себе, и ставить границы необходимо особенно аккуратно, чтобы не подавить эту активность. С другой стороны, с такими детьми иногда приходится иметь более близкий физический контакт, т. к. они не сразу могут «слышать» терапевта, воспринимать его речь (например, приходится аккуратно сдерживать физически, когда ребенок может причинить вред себе, терапевту, кабинету). В процессе игровой терапии ребенок начинает различать свои границы и границы внешнего мира, других людей, постепенно в кабинете будто бы «появляется» для него терапевт, которого он раньше не замечал, и появляется потребность во взаимодействии.
Что же такого особенного происходит между терапевтом и аутичным ребенком в игровом пространстве? Это – безопасное пространство, где можно не бояться быть собой в присутствии другого человека, где не учат каким-то паттернам поведения, где внимательно относятся к любым действиям и чувствам, где принимают таким, какой ты сейчас. Постепенно ослабевает страх взаимодействия, контакта с миром, с другими людьми, страх показывать свои чувства, быть не принятым. С такими детьми иногда приходится быть более активным во время сессии, возникают сильные контрпереносные чувства (желание спать (изоляция), чувство бессилия, беспомощности, пустоты, отчаяния). В зависимости от степени нарушений ребенка выбирается вид психотерапии: интерпретативная или поддерживающая. Если интерпретации возможны в работе, то, кроме всего вышесказанного, есть возможность проработки травм и конфликтов. Еще одной особенностью игровой терапии с аутичными детьми является то, что работа требует больше времени.
Насколько будет эффективной игровая терапия, зависит от многих факторов: от уровня функционирования психики ребенка, от степени сохранности интеллекта, от готовности родителей изменить отношение к ребенку (в том числе выдержать его самостоятельность, меньшую зависимость от них, выдержать свою ревность к игровому терапевту, который тоже становится интересен ребенку). В первую очередь, заметны улучшения в речи (начинает повторять слова за взрослыми, появляется активная речь), в игре (подражает взрослому, появляется сюжетная игра, ролевая); появляется контакт глаз; взрослые и сверстники начинают вызывать интерес; появляются упрямство и борьба за свои желания, что является положительной динамикой; повышается самостоятельность в быту; появляется возможность социализировать ребенка (кружки, курсы, школа, сад).
Рассмотрим особенности применения психодинамической игровой терапии на примере одного случая Описание клинического случая: На момент обращения мальчику было 7 лет. При разговоре о сыне мать часто употребляла местоимение «мы» («начали читать, писать», «мы не говорим»).
Симптомы на момент обращения: речь практически отсутствовала; кричал, когда ему взрослые что-то запрещали; кусался, иногда щипал близких (особенно бабушку); раньше бился головой; на момент обращения хватал себя, щипал; отсутствовал зрительный контакт; постоянно издавал какие-то звуки, «гудел»; к детям интерес не проявлял, к посторонним взрослым был настороженно настроен. Закрывал уши руками (когда стеснялся или слышал неприятные ему или громкие звуки); был избирателен в еде, в выборе мультфильмов; если чем-то увлекался, мог этим заниматься несколько дней; процесс дефекации осуществлял под маминым контролем; одевался самостоятельно; ел часто сам, иногда бабушка докармливала; спал вместе с мамой, т. к. она боялась, что он упадет с кровати. Любил телефон и планшет, на которых смотрел мультфильмы, слушал музыку, играл в игры.
Диагноз врачей: задержка развития, аутистические черты. Один психиатр сказал, что «тяжелый случай», что ребенок никогда не будет полноценным членом общества, сможет лишь помогать по дому.
Семья неполная, родители разошлись, когда ему был 1 год. Папа не принимал и не принимает участие в жизни мальчика. Воспитывается мамой и бабушкой (по маминой линии). С возраста ребенка около 2 лет мать стала много работать, он оставался с бабушкой. В последнее время мать старается ему уделять больше внимания, занимается с ним, учит.
Анамнез: беременность была не планированная, проходила без осложнений, роды самостоятельные, зафиксировали гипоксию; до 1,5 лет развивался нормально (с 18 месяцев как раз начинается третий критический период для развития аутизма, по Б. Беттельхейму), грудью кормили до 7 месяцев, было мало молока; в кроватке почти не лежал, спал лишь на руках (до полугода); до 1,5 лет не было ни одной спокойной ночи, по словам матери, плакал, вскрикивал. После родов мать тяжело болела, чувствовала депрессию. С возраста ребенка около 2 лет такое состояние матери усилилось, она чувствовала отчаяние, апатию. В возрасте ребенка 3 лет обратились к неврологу в связи с плохим сном, плачем, вскакиванием по ночам. В детский сад начал ходить в 3 года, но проходил всего лишь 2 месяца. Там он не слушался воспитателей, его сажали отдельно от всех детей, адаптация проходила сложно. После сада стал бояться туалета и тех помещений, где есть кафель. Самостоятельно ходить в туалет стал только около 3 лет.
К психологу семья ни разу не обращалась до этого, в начале терапии мать испытывала страх, что не будет результата.
Уровень функционирования психики мальчика – психотический. Защитные механизмы: регрессия, всемогущий контроль, примитивная изоляция. В ходе психоаналитической беседы и наблюдения за игрой ребенка можно было предположить, что аутистические проявления мальчика имеют симбиотический характер. Возможные причины аутизма: 1) конфликты в отношениях между родителями могли повлиять на ухудшение процесса лактации матери; ребенку было всего 7 месяцев, когда он перестал сосать грудь, это могло повлиять на фиксацию развития на данном периоде; 2) развод родителей привел к тому, что отец не выполнил свою функцию в поддержке диадных отношений в тот момент развития ребенка (ему было около года) и в необходимом прекращении таких отношений в возрасте 3 лет; 3) симбиотические отношения с матерью продолжались до 7 лет (симбиотический аутизм по М. Малер), активность, самостоятельность ребенка не всегда поддерживалась.
Всего была проведена 51 сессия с ребенком и 4 консультации с матерью ребенка (работа с ребенком все еще ведется).
В начале терапии ребенок все пытался попробовать на вкус, кусать и даже засовывал в рот несъедобные предметы (приходилось его уговаривать их извлекать и объяснять правила). Игра носила предметно-манипулятивный характер, игрушки применялись не по назначению, более того его интересовали лишь их свойства (как они звучат, пахнут, каковы они на вкус). Иногда ребенок вел себя агрессивно в ответ на какие-то ни было запреты, проверял границы и реакции терапевта (хотел ломать игрушки, пачкать кабинет и терапевта, иногда удавалось кусаться и царапаться). Сначала ребенок с трудом оставался без матери, был тревожен, показывая это звуками и криками, иногда проверял, ждет ли она его в коридоре. Свои желания показывал жестами, а не словами. Сначала рисовал разноцветные полоски, спустя несколько сессий подражал в рисунке терапевту. В глаза не смотрел.
В процессе терапии заметна следующая динамика в кабинете: к запретам и ограничениям стал относиться спокойнее, а потом и вовсе их принял; стал подражать рисунку, игре и словам терапевта, повторять за ним; стал пытаться говорить (меньше жестикулировать), появилось больше активной речи (однако не все слова понятны); игра иногда стала носить сюжетный характер; стал развиваться процесс символообразования: вместо того, чтобы самому съесть песок, он его «давал есть» игрушкам; появился хороший контакт глаз; игровой терапевт стал интересен в процессе терапии, на него обращает внимание, в нем нуждается и просит активности; появилось все больше игр, связанных с анальной стадией развития (пачкается, смешивает песок, краску, воду, пластилин, в том числе со слюной).
Динамика вне кабинета (со слов матери): стал самостоятельным в быту (нет необходимости в присутствии мамы); стало возможным с ним договориться о чем-то; начал посещать занятия с дефектологом (раньше он был не готов), в том числе в микрогруппе; изменился рисунок; уменьшилась агрессия; повторяет слова за взрослыми и появилась инициатива в общении; стал говорить новые слова; дети стали вызывать интерес (однако пока он выбирает наблюдательную позицию).
Таким образом, наблюдается положительная динамика в ходе терапии. После консультаций мать стала обращать внимание на ее отношение к сыну, как к части себя («мы») и менять это отношение, стала поощрять и вдохновлять его на самостоятельность и активность. В кабинете игрового терапевта было создано переходное, игровое пространство, в котором чувства и действия ребенка принимались, а запреты озвучивались и объяснялись. Только при условии создания хорошего альянса с родителями, такая работа будет наиболее эффективна.
Можно предположить, что данный метод работы с детьми, имеющими аутистические расстройства, может быть эффективен. Опыт проведения психодинамической игровой терапии в образовательных учреждениях дает основание предположить возможность ее использования педагогами-психологами в условиях инклюзивного образования (как одного из возможных методов работы).
Что касается игровой терапии в образовательных учреждениях, то здесь необходимо создать соответствующие условия: отдельная комната, необходимое оборудование, игрушки, возможность регулярных встреч. Кабинет психолога должен стать такой площадкой, на которую, с одной стороны, ребенок смог бы спроецировать свой внутренний мир (М. Четик) [13], а с другой, которая бы не давала готовых символов, а вдохновляла ребенка на возникновение своих собственных (поэтому в кабинете не должно быть много игрушек с уже заданным значением). Отношение родителей к такой работе в образовательном учреждении несколько отличаются от частной практики, степень их заинтересованности и участия (посещение родительских консультаций, например), как правило, гораздо меньше. Тем не менее динамика изменений ребенка также заметна. Сравнивая опыт проведения игровой терапии в школе и детском саду, могу заметить, что в детском саду условий для работы по такому направлению, конечно больше, даже в силу того, что дети находятся в саду в течение дня, и всегда есть возможность организовать сессию. Тем более, что аутичные дети школьного возраста пока еще часто находятся на домашнем обучении, хотя в практику уже все больше входит инклюзивное образование.
Список литературы Развивающие возможности психодинамической игровой терапии в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра
- Беттельхейм Б. Пустая крепость. Детский аутизм и рождение Я / пер. с англ. Б. Орлова. М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2013.
- Бион У.Р. Внимание и интерпретация. СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 2010.
- Винникотт Д.В. Игра и реальность. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2008.
- Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери / пер. с англ. Н.М. Падалко. М.: Независимая фирма «Класс», 2013.
- Винникотт Д.В. Ребенок, семья и внешний мир. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015.