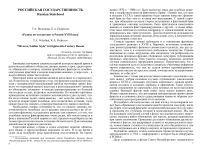«Развод по-солдатски» в России XVIII века
Автор: Володина Татьяна Андреевна, Подрезов Константин Андреевич
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 74, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется практика самовольных разводов посредством составления письменного документа - разводного письма - на протяжении XVIII в. Авторы рассматривают данное явление в контексте более ши рокой проблематики - эффективности и степени контроля Русской православной церкви за жизнью мирян в России в раннее новое время. В статье дается краткая характеристика современных историографических трендов в изучении данной проблемы. На основе широкого круга архивных и опубликованных источников авторы выявляют факторы, которые влияли на практику разводов по обоюдному согласию. По мнению авторов, создание многочисленной регулярной армии и условия службы в ней сыграли серьезную роль в разворачивающемся соперничестве двух трендов в понимании брака - как сакрального таинства и как гражданского договора. Под влиянием бюрократической регламентации, модернизации государства и институционального укрепления церкви практика разводных писем изживалась в среде простонародья. В дворянско-офицерском обществе не менее значимым ограничителем выступали проблемы с наследованием поместий. Солдаты же являлись тем социальным слоем, в среде которого практики самовольного развода распространялись легче и были в меньшей степени подвержены воздействию всех этих сдерживающих факторов. Авторы приходят к выводу, что регулярная армия самим фактом своего существования и специфическими условиями армейской жизни рождала запрос на появление иного отношения к браку - как к союзу, содержащему в себе черты гражданского договора и несущему мощный импульс модернизации в социокультурной сфере.
Русская императорская армия, офицер, солдат, крестьянство, русская православная церковь, брачно-семейные отношения, церковный брак, незаконный развод, многобрачие, гендерная история
Короткий адрес: https://sciup.org/149141321
IDR: 149141321 | DOI: 10.54770/20729286_2022_4_6
Текст научной статьи «Развод по-солдатски» в России XVIII века
Т.А. Volodina, К.А. Podrezov
“Divorce, Soldier Style” in Eighteenth-Century Russia
«А между тем все эти браки кем-то повенчаны и где-то записаны...» Николай Лесков «Русское тайнобрачие»
Занимаясь изучением социокультурной роли регулярной армии в развитии российского общества, авторы данных строк, среди прочего, обращались к вопросу влияния армейского фактора на семейносексуальные практики и модели поведения военных, а через них - и на российское общество в целом.
Некоторые наши положения вызвали несогласие со стороны коллег. В частности, утверждение о том, что феномен самовольного развода с материальной компенсацией (иногда источники прямо именуют это «продажей жены») выступал в роли гражданского «развода по обоюдному согласию» и находил распространение по большей части среди солдат, встретило непонимание. По мнению критиков, приведенные источники слишком малочисленны (два случая), чтобы на их основе делать такие выводы, - вот если бы, дескать, в документах консисторий подобные дела исчислялись сотнями, тогда можно было бы говорить о распространенности данного явления.
Необходимо, однако, подчеркнуть, что, по нашему мнению, малочисленность подобных дел в архивах свидетельствует не об отсутствии феномена «солдатского развода» как такового, а о том, что подобные казусы фиксировались очень редко, ибо могли попасть в фокус внимания Русской церкви и стать предметом разбирательства только при исключительном стечении обстоятельств. Для пояснения данной мысли приведем аналогию.
Советский кодекс о браке и семье содержал понятие «фиктивного брака» и предусматривал наказание за него. В то же время в судах дела подобного рода практически отсутствовали. На протя- жении 1970-х - 1980-х гг. было вынесено лишь два судебных решения о недействительности фиктивного брака1. Однако тем, кто жил в позднем СССР, о такой практике было хорошо известно; фиктивный брак не был чем-то из ряда вон выходящим. С одной стороны, при обоюдном согласии сторон, вступавших в фиктивный брак и хранивших «заговор молчания», было практически невозможно выявить и доказать факт правонарушения, с другой - в глазах общества такое действие (в отличие, например, от изнасилования) не воспринималось как «преступление». Для исследователя складывается парадоксальная ситуация: явление, безусловно, есть, а документальных источников о нем нет.
Схожую картину можно наблюдать и в отношении феномена «солдатского развода» в XVIII в. Впрочем, источники, позволяющие реконструировать феномен самовольного развода, как раз существуют, хотя и в относительно небольшом количестве. Однако выявление их очень затруднено, ибо материалы эти разбросаны по различным архивным фондам, сборникам, мемуарам, публикациям архивных документов. Нам удалось отыскать несколько десятков случаев самовольного оформления развода2. Примечательно, что в случае вскрытия дела и следствия в допросах участников рефреном звучит уверенность, что они не делали ничего противоправного: «Разводное письмо по простоте своей, почитая оное за непротивное законам, от себя дал»3.
Знакомство с этими свидетельствами позволяет однозначно сделать вывод: добрая половина случаев, отражающих самовольный развод в XVIII в., описывает ситуации, связанные с людьми армейскими (солдаты и солдатки, офицеры и офицерши). Такое соотношение совершенно не соразмерно доле военных во всем населении страны. Военный фактор явно играл здесь некую важную роль. Можно предположить, что регулярная императорская армия самим фактом и условиями своего существования каким-то образом способствовала распространению этого явления.
В подобных обстоятельствах, на наш взгляд, плодотворным может быть обращение к исследовательской стратегии case study, когда мы берем отдельный фрагмент исторической реальности («случай») и проводим его глубокий, полный и комплексный анализ. Мы как бы помещаем отдельный случай в фокус исследовательского микроскопа, стремясь найти объяснение тем чертам, которые выявляются при таком увеличении. Привлекая для такого объяснения другие источники и факты, мы раскрываем сущность индивидуального казуса, осмысливаем степень его уникальности или обыденности и тем самым встраиваем его в общую картину исторического прошлого.
В развитие данного тезиса попытаемся провести анализ случая, произошедшего в 1764 г, информация о котором была обнаружена в РГВИА4.
Дело сохранилось в фонде Санкт-Петербургского генерального кригсрехта, который с 1717 г. играл роль высшего военно-судебного органа. На этот раз на утверждение в столицу попала лишь выжимка из следственного дела (на судебно-следственном языке того времени - «экстракт») касательно капрала Санкт-Петербургского пехотного полка Василия Сухарева. Сухарев в 1760 г, 16-ти лет от роду, оказался в рекрутах, а к 19-ти годам уже дослужился до звания капрала. Объяснение здесь простое: солдат умел читать и писать. Грамотному солдату в XVIII в. открывались перспективы быстрого продвижения по службе, но его же на этом пути подстерегали и подводные камни, как будет видно из материалов следствия.
* * *
Итак, капрал Сухарев, полк которого стоял в Смоленской губернии, был направлен в Вязьму на почтовую станцию для отправки корреспонденции. Здесь к нему обратился некий человек и осведомился о том, грамотен ли Сухарев. Человек этот, оказавшийся дворовым отставного капитана Михаила Пересветова, сообщил, что капитан просит Сухарева пожаловать к себе в поместье (с. Семлево) по важному делу. Село располагалось в трех верстах, и капрал дал себя уговорить.
По приезде его встретила пестрая компания: сам владелец села, его крестьянин Максим Афанасьев, солдат Нижегородского пехотного полка Косачев и дьякон местного храма. Все они попросили его приложить руку к «увольнительному письму», которое Косачев, не разумеющий грамоты, дает своей жене. Сухарев было засомневался, но капитан заверил его, что никакого нарушения здесь нет, поскольку солдат Косачев сам согласен дать развод своей жене, ибо и от помещика, и от мужа-крестьянина «удовольствие свое уже получил». А дьякон тем временем уже положил перед капралом составленный документ, под которым Сухарев и подписался: «По просьбе Нижегородского пехотного полку четвертой роты солдата Филимона Косачева вместо его Санкт-Петербургского пехотного полку первой мушкетерской роты капрал Василий Сухарев, понеже он грамоте не умеет, руку приложил»5.
Ситуация заключалась в следующем. Косачев когда-то был женат на Василисе Семеновой, но в 1741 г. его взяли в рекруты, и 22 года он о своей жене ничего не слышал. Однако в 1763 г. со своим полком он оказался в Смоленском уезде и узнал от родной сестры, что жена его давно вышла замуж за крестьянина Афанасьева и родила в этом браке детей. Он явился в новую семью, чтобы «урегулировать вопрос» и получить некоторую денежную компенсацию6.
Как видим, все участники данного дела были полностью удовлетворены, и оно никогда бы не попало в поле зрения судебно-следственных органов, если бы не одна незадача: в полку случайно обнаружилось, что Косачев в ранце хранит свой экземпляр этого «уволь- нительного письма». Было доложено по команде, и следствие закрутилось. Военный суд рассматривал только дело капрала Сухарева, все остальные участники должны были попасть в лоно церковной юрисдикции, ибо дела о незаконных браках находились в ведении консисторий. Сухарев был разжалован в рядовые и наказан шпицрутенами - прогнан сквозь тысячу человек три раза.
К сожалению, в фонде Смоленской консистории не сохранилось никаких следов этого дела, однако требования церковного права в отношении многобрачия хорошо известны7. Должен был быть восстановлен первоначальный брак, незаконный брак аннулировался, а нарушители подвергались различным наказаниям (епитимия, заключение в монастырь и т.п.). Однако на практике исполнение этих норм часто вступало в противоречие с практикой жизни. По отношению к солдатам Русская церковь не могла эффективно применять эти инструменты, и мудрый Феофан Прокопович еще в «Духовном регламенте» утверждал, что на рядовых воинов, корабельных служителей и нищих епитимию лучше вообще не налагать, ибо она их не слишком страшит, а проконтролировать ее исполнение невозможно8.
Вернуть в данном случае жену с детьми к мужу тоже было проблематично, ибо армейские условия XVIII в. не предполагали семейного проживания нижних чинов (отсутствие казарм, квартир для семейных и частые передислокации). Кроме того, статус рожденных в новом браке детей был спорным: должно ли было их рассматривать принадлежащими к военному ведомству (по матери-солдатке) или же собственностью помещика Пересветова (по отцу, крепостному крестьянину). Спустя несколько месяцев полк бы снялся с зимних квартир, и солдат не увидел бы возвращенную ему насильно жену еще лет двадцать. В отношении же ее второго мужа арсенал наказаний тоже был невелик. Не слишком легко было отослать в монастырь крестьянина капитана Пересветова, тем самым нанеся помещику имущественный урон.
Пристальное изучение этого архивного дела ставит перед нами многочисленные вопросы. Почему в таком «противозаконном» мероприятии принимают участие представители различных сословий российского общества, явно не испытывая страха, неловкости и замешательства? Значит ли это, что при обоюдном согласии сторон феномен упрощенного развода путем «продажи жены» и составления «разводного письма» был распространен и воспринимался как норма среди всех слоев общества? Зачем вообще солдат Косачев считал необходимым составить столь компрометирующий письменный документ, да еще и хранить его с риском для собственного благополучия?
Что же такое разводное письмо (в источниках встречаются также варианты - «увольнительное письмо», «отступное письмо», «отпускное письмо»)? Это документ, который составляли супруги при обоюдном согласии расторгнуть брак. Документ этот был абсолютно незаконным с точки зрения канонического церковного права, потому как в законодательстве в принципе не существовало такого основания для развода, как «обоюдное согласие». Парадокс состоял в том, что Русская церковь (во всяком случае, на местах) как будто признавала правомочность разводных писем, ибо зачастую их писали или заверяли духовные отцы супругов, приходские священники, монахи или дьяконы9. Иначе невозможно объяснить тот факт, что Синод вынужден был неоднократно принимать указы о запрещении духовным лицам прикладывать руку при составлении разводных писем10. Несмотря на громы Синода рядовое духовенство, если дело можно было решить, не привлекая внимания архиерея или церковного начальства, вполне могло закрыть глаза на такой неформальный развод и даже провести обряд нового венчания.
Содержание разводного письма можно восстановить по немногочисленным полным текстам, дошедшим до нас. Документ предусматривал определенный формуляр, хотя далеко не всегда содержал все структурные части. В разводном письме можно выделить следующие элементы: имя супруга, который дает развод; имя того, кому дают развод; указание на добровольность (договорились полюбовно); согласие на новый брак или пострижение мужа/жены; указание на материальную компенсацию (что получает тот, кто дает разводное письмо или тот, кому дают разводное письмо); указание на окончательность («а впредь мне ни о чем властителям челом не бить»); подпись дающего разводное письмо (или, в случае его неграмотности, того, кто за него руку приложил); подписи свидетелей и дата составления11. Здесь важно подчеркнуть: если сложились такие типические черты определенной формы документа, то это говорит о его бытовании в реальной жизненной практике. Понятно также, что составить такой документ мог лишь человек, обладающий определенным уровнем бюрократической грамотности (представитель духовенства, подьячий).
Что касается допетровского времени, то мы видим противоречивую картину. С одной стороны, Сигизмунд Герберштейн уверенно писал о московитах: «Развод они допускают и дают разводную грамоту, однако тщательно скрывают это, ибо знают, что это вопреки вере и уставам»12. С другой стороны, документальных источников, в которых бы говорилось о разводных письмах в допетровское время, дошло до нас крайне мало13. Впрочем, интересно отметить, что в этих документах мы видим субъектами такого развода и крестьян, и посадских людей, и представителей известных дворянских фамилий.
Однако здесь возникает закономерный вопрос: этих дел так мало, потому что случаи самовольного развода были очень редки? Или же их незначительное количество объясняется плохой сохранностью и низким уровнем бюрократизации церковной жизни? Ведь разводное ю письмо хранилось в частных руках и могло отложиться в документах церковных властей только в случае судебного разбирательства. Если же развод по обоюдному согласию предусматривал полюбовную договоренность, а общество не видело в нем ничего предосудительного, то апеллировать к церковному суду было некому Именно такой точки зрения придерживался А.И. Загоровский, объясняя малочисленность дошедших до нас допетровских разводных писем «не скудостью явлений жизни, а скудостью археологии»14.
Вопрос о допустимости и распространенности разводов (и особенно разводов по взаимному согласию) в России XVII-XVIII вв. имеет далеко не второстепенное значение. В раннее новое время в понимании института брака исторически боролись два представления о нем: брак как священное таинство (католические страны) и брак как некая форма договора (протестантские страны). В первом случае развод был почти невозможен, во втором - допустим, в том числе и на основании желания супругов, расторгающих этот договор. Каков же был общий тренд развития в русском обществе на протяжении XVII-XVIII вв.? От глубокой богобоязненности, строгого почитания церковных установлений и жесткого им следования - к постепенному распространению секулярных практик, росту религиозного индифферентизма и смягчению церковной власти? Или же наоборот: от толерантного сосуществования церковных канонов и реальных повседневных практик (с широких спектром уклонений и отступлений) - ко все более жесткой регламентации семейно-брачной сферы за счет огосударствления церкви и более эффективного использования инструментов регламентации и бюрократического контроля?
Разброс мнений касательно данной проблемы среди современных исследователей, изучающих историю брачно-семейных отношений и практики разводов в России XVIII в.15, достаточно широк. Так, М.К. Цатурова, проанализировав значительное количество бракоразводных дел, приходит к выводу об эффективном действии канонического права и о малой распространенности разводов в России XVII-XVIII вв.16 Напротив, О.Е. Кошелева утверждает, что писаное церковное право не слишком успешно регулировало частную семейную жизнь людей даже в XVIII в., не говоря уже о более раннем времени17. В этом она солидарна с американской исследовательницей Р. Биша, которая указывала, что в системе ценностей мирян приоритетным было не церковное предписание, а убеждение, что «каждый взрослый может жить в супружеской паре»18. Вообще в оценке степени и эффективности контроля Русской церкви за жизнью своей паствы мы видим как лестные, так и скептические интерпретации. Так, Д. Кайзер приходит к выводу, что уже в XVII в. Русская церковь достаточно строго контролировала брачную сферу. В то же время Г. Фриз считает, что в силу институциональной слабости ей удалось достичь такого контроля лишь к середине XIX в.19
Можно предположить, что в России раннего нового времени присутствовали обе модели в понимании супружества. При сакральном понимании брака как священного таинства господствовал принцип нерасторжимости («только смерть разлучит нас»), а всякие резоны на предмет развода (безумие, прелюбодеяние, оскопление) рассматривались как допустимые, но отнюдь не безусловные. Таинство брака не теряло своей священной сущности даже в случае «сомнительности» венчания (ночью, в чужом приходе, тайком, без необходимых предварительных процедур). Именно это и породило в русском народе меткую пословицу: «Худой поп свенчает - и хорошему не развенчать»20.
В оппозиции к сакральной модели находилось супружество, содержавшее в себе оттенок «гражданского договора». Развод по взаимному согласию свидетельствует как раз об этой черте, ведь священный союз, осененный Богом, невозможно разорвать простой подписью супругов. Именно о договоре свидетельствуют и материальные компенсации, которые упоминаются в разводных письмах. Они предоставлялись, как правило, стороной, которая уже заключила новый, «незаконный» брак или же собиралась его заключить. Характер компенсации мог быть абсолютно разным: 50 рублей да полотна на рубахи - в пользу солдата, пшеница с рожью да телка с кобылой и жеребенком - в пользу крестьянки, приданое каждой дочери в виде денег и части поместья - в пользу дворянки, и даже раздел недвижимости - при разводе представителей высшей аристократии21. Однако сам по себе факт подобной «материальной оценки» нерушимости брака говорит об отношении к нему именно как к гражданскому договору.
Применительно к XVIII в. и встает вопрос: какие факторы воздействовали на данную сферу отношений в различных социальных слоях?
Конечно, с точки зрения церковных канонов нельзя было, находясь в браке, венчаться заново (хоть с разводным письмом, хоть без него). Однако вставал вопрос: как это проконтролировать? Инструменты контроля были следующие: венечная память, церковный обыск, присяга свидетелей из числа прихожан и записи в метрических книгах22. Все это были документы, подтверждающие проведение специальных процедур, которые должны были выявить наличие препятствий к браку. Должны были, но далеко не всегда выявляли23. Они еще как-то справлялись со своими задачами в условиях низкой мобильности людей, которые всю жизнь проживали в рамках одного прихода. В этом случае в ходе процедуры церковного обыска соседи могли вспомнить, что потенциальный жених (или невеста) уже был обвенчан лет десять назад, а о вдовстве его доподлинно неведомо. Но даже на уровне прихода бюрократический контроль за брачносемейной жизнью мирян был не вполне эффективен. Только с 1770-х гг. законодатель стал пытаться внедрять «формы строгой отчет- 12
пости» как препоны на пути «сумнительных браков»: шнуровые книги за скрепою церковного начальства, единую форму записей в обыскных и метрических книгах, ежегодную сдачу приходских книг в консисторию и т.п.24
Однако все эти меры были не слишком действенны в отношении военных. С созданием регулярной армии огромная мужская масса пришла в движение. Благодаря длительным срокам военной службы, участию в походах и войнах солдаты и офицеры выпадали из-под контроля прихода, а отношения с женами при многолетней разлуке угасали. Как, например, можно было проверить брачный статус солдат и офицеров русского корпуса, стоявшего в Австрии в 1748 г? Обер-иеромонах корпуса жаловался в Синод: солдаты и офицеры венчаются с местными католичками либо в костелах, либо у полковых священников, не испрашивая разрешения начальства. У командира же корпуса генерал-лейтенанта Ливена голова болела о другом: как обеспечить при возвращении корпуса в Россию, чтобы «офицеры и солдаты, вступившие в связи с местными обывательницами, не остались заграницею». Ливен приказал записывать сведения о невестах (место жительства, имя, семья), но его интересовал не матримониальный статус своих подчиненных, а возможность отыскать и вернуть в полк потенциальных дезертиров перед выступлением в Россию25. Как результат специфики армейской жизни многобрачие становилось одним из наиболее частых нарушений церковного права среди военного сословия.
До какой степени территориальная мобильность снижала возможность контроля за брачующимися, хорошо демонстрирует случай дворянина Ивана Филиппова, который, сбежав из Измайловского полка, в течение 1775-1776 гг. успел обвенчаться пять раз и готовился к шестому браку26.
Показательным представляется и дело подполковника Енисейского полка Михаила Окункова, которое рассматривалось в Синоде в 1744 г. Взятый, будучи женатым, в военную службу в 1718 г, он вдруг в 1730 г. обратился к митрополиту Тобольскому с просьбой разрешить ему жениться вторично, ибо его первая жена давно вышла замуж за оружейного мастера Коренева. Во время следствия выяснилось, что подполковник «своеручным письмом» отдал свою жену оружейнику на «беззаконное сожитие»27. Архиерейский суд, который запретил офицеру входить в церковь и причащаться святых тайн, оказался бессилен, ибо Окунков все запреты игнорировал, церковные службы продолжал посещать, а доставленную к нему на квартиру жену вновь отпустил от себя, выдав ей новое разводное письмо. Преосвященный взывал к Синоду: «Преступления своего и в грех себе не вменяет, и наложенной епитимии не чувствует»28.
Такого рода казусы (а они до середины XVIII в. встречаются часто), на наш взгляд, как раз и свидетельствуют о том, что в сознании людей продолжало бытовать представление о разводе по обоюдно- му согласию как о деле совершенно нормальном. Иначе невозможно объяснить сам факт письменного прошения подполковника в адрес церковных властей, ведь тем самым человек писал донос на самого себя.
Русская церковь и сама осознавала явную недостаточность своих инструментов для контроля за браками военных. В наказе Синода при созыве Уложенной комиссии мы видим явное стремление переложить эту головную боль на плечи военного ведомства29. Руководство церкви требовало ввести в российское законодательство новые нормы. Предлагалось, например, чтобы церковь венчала «воинских людей муже ска и женска пола» только при наличии у них выданного командирами «письменного достоверного свидетельства о безбрачии или вдовстве». Синод специально отмечал как массовое явление неразбериху в бракосочетаниях военных и их жен: и те, и другие при длительных разлуках, связанных со службой, заключают повторные незаконные браки. Зачастую получалось, что эти военные и их жены сами точно не знали, законный брак они заключили или нет30. По мнению Синода, дело учета и контроля брачного статуса, и особенно извещений о смерти (которые единственно только и давали в глазах церкви право на повторное венчание) было поставлено в Военной коллегии совершенно неудовлетворительно31. Военное же ведомство полагало, что у него есть более важные заботы, нежели следить за женитьбой солдат и офицеров.
Поражает количество указов Синода, которыми церковная власть пыталась ограничить эту военную вольницу: о запрете солдатам жениться на винтер-квартирах; о запрете солдатам и офицерам жениться заграницей; об обязанности командования извещать епархии о смерти военных; об обязательном извещении военными своего командования при желании вступить в брак; о запрете приходским священникам венчать военнослужащих (это должен делать только полковой священник); о необходимости высочайшего дозволения на браки генералов; о необходимости письменного разрешения командующих на браки офицеров; о запрете венчания нижних чинов, находящихся в отпуску и т.п.32 Такая повторяемость и многократность свидетельствует лишь об одном: усилия законодателя по контролю в военно-брачной сфере оставались безуспешны.
К XIX в. ситуация мало изменилась: Синод по-прежнему стремился переложить груз ответственности на военное ведомство. В 1810 г, касаясь случаев расторжения брака по причине долговременного отсутствия и безвестности жен и мужей, он подчеркивал: «не приемлются просьбы [о разводе] от находящихся в военной службе, ежели не представят они на подачу дозволения от своего начальства»33.
Свидетельства источников позволяют сделать вывод о том, что самовольный развод изначально не был исключительной прерогативой солдатской жизни. Как мы видели, до создания регулярной 14
армии это явление было равным образом присуще различным социальным слоям. Картина начинает меняться в послепетровское время. Самовольный развод по-прежнему присутствует, к нему прибегают и дворяне, и простонародье. В 1787 г, например, майорская дочка Мария Васильева была выдана замуж за поручика Льва Щепочкина, а спустя пять лет муж подписал ей увольнительное письмо, и оба в скором времени на основании этого документа венчались вторично, каждый - со своим избранником34. В 1747-1748 гг. в Переславской епархии разбиралось дело о самовольном разводе и втором браке майора Алексея Уварова, который обменялся со своей супругой разводными письмами: он ей дал собственноручно написанный документ, а от нее «получил письмо за рукою отца ее духовного, что ему, Уварову жениться на другой препятствовать не будет»35. А граф Александр Строганов в 1765 г. при разводе договорился со своей женой, урожденной графиней Воронцовой, что они в приданом, имении и вещах «сделали полный расчет, и каждый свое к себе возвратили»36.
Не исчезала подобная практика и среди простонародья. В этих социальных слоях к разводным письмам прибегали, как правило, в случае серьезной болезни одного из супругов или в случае долгого отсутствия. О материальной компенсации здесь говорилось открыто и без стеснения. Так, ослепшая жена по разводному письму должна была получить «ржи три четверти, осьмину пшеницы, осьмину гречихи, четверть проса, дву лет телицу, жеребейка, кобылку трех лет, двухъ овецъ, да сверх того по мешку хлеба в год, пока жива будет»37. А мужик, пробывший в плену у крымских татар 22 года, по возвращении обнаружил свою жену давно живущей во втором браке. Поговорив полюбовно, он взял от нее разводное письмо и 5 рублей компенсации38.
Однако на протяжении столетия оба этих слоя - простонародье и дворянство - постепенно вводились в рамки церковно-канонического понимания брака, хотя и под воздействием различных факторов. В случае крестьян и мещан начинал все более эффективно действовать документальный учет и контроль. В первой половине XVIII в. следствие о «сумнительном браке» часто замирало, столкнувшись с непреодолимыми препятствиями: или венечная память оказывалась утерянной, и никто не помнил, кто ее выдавал и когда; или метрические книги в пожаре погибли, или члены причта, проводившие венчание, уже померли, и допросить было просто некого. «Утайка брака» (совершение венчания без венечной памяти) была самым распространенным нарушением среди приходского духовенства в конце XVII в. Здесь присутствовал непосредственный материальный интерес, ибо за венечную память нужно было платить венечную пошлину. А священник, согласившийся венчать без этого документа, мог положить эти деньги себе в карман; для вступающих в брак выходило дешевле и быстрее39. В случае следствия на запросы
Синода или епархии из прихода мог прийти ответ: «О венчании никаких книг и присланных памятей ниоткуда не явилось»40. На протяжении XVIII в., с усилением регламентации и документирования в брачной сфере, разводные письма в среде простонародья постепенно отмирали, ибо перспективы безнаказанности самовольного развода и повторного венчания становились все более сомнительными.
Этому способствовали несколько факторов: локальная фиксированность человека и привязка его к приходу, невозможность утаить что-либо в рамках прихода, повышение эффективности бюрократического контроля над брачными отношениями за счет усложнения документального оформления процесса вступления в брак41. Проще говоря, каждое действие (или бездействие) при вступлении людей в брак должно было оставлять документальный след, который мог быть подвергнут проверке. Было законодательно запрещено венчаться в чужом приходе. За несколько недель священник объявлял о предстоящем венчании и спрашивал, не знает ли кто из присутствующих препятствий к совершению этого брака (церковный обыск). При самом венчании должны были присутствовать свидетели из числа местных жителей, которые письменно подтверждали, что препятствий к браку нет (присяга). Все эти записи фиксировались в венечных, обыскных и метрических книгах, в которых подменить страницы было невозможно, а утайка книг («утеряны», «сгорели», «подмокли», «погрызены мышами») исключалась необходимостью ежегодно сдавать их в консисторию. Впрочем, и в конце XVIII в. трудности с учетной документацией продолжали существовать; в 1794 г. Синод отдал распоряжение содержать под стражею церковнослужителей, манкирующих отчетностью42.
Однако в «медвежьих» уголках страны развод по обоюдному согласию, без привлечения церкви, сохранялся и в более позднее время. Корреспонденты Русского географического общества, например, даже в 1850-е гг. сообщали, что это явление все еще живо среди крестьян Нижегородской губернии43. Встречалось оно и в семьях сибирских крестьян44.
Применительно к дворянству на первый план выходил другой фактор. Дворяне - а для XVIII в. это практически всегда были еще и офицеры, - подобно солдатам, отличались территориальной мобильностью. В годы военной службы дворянин точно так же выпадал из-под контроля прихода. «Соратниками по приходу» у офицера были его однополчане, которые в целом разделяли корпоративную невзыскательность в отношении моделей брачного поведения. Трудно представить себе, чтобы военные, которые бок о бок шли в бой, затруднились бы засвидетельствовать что угодно, коли их собрату пришла охота жениться. Так, канонер Костылев в 1731 г. выдал своей жене разводное письмо, которое заверил его командир, а при новом венчании холостой статус канонера без тени сомнения подтвердили его собратья по полку45.
У дворянина было гораздо больше возможностей полюбовно, за малую мзду «договориться» с батюшкой, чтобы тот снисходительно прикрыл глаза на некоторые несоответствия требованиям церкви46. Кроме того, вряд ли многие священники могли противиться прямым распоряжениям обвенчать какую-то пару или составить разводное письмо, если тот, кто отдавал распоряжение, был выше по социальному статусу: с генералом или полковником приходилось считаться полковому священнику47, а с богатым помещиком - сельскому батюшке, который служил в церкви, располагавшейся в имении дворянина и построенной на его деньги.
Впрочем, по мере роста бюрократического контроля и священники подвергали себя все большему риску; дело могло закончиться лишением сана, плетьми и отправкой в казенные работы, как это случилось с сельским попом Торопецкого уезда в 1744 г.48 Правда, такой печальный конец наступил для него после того, как священник в течение 16 лет венчал напропалую всех желающих: без венечных памятей и церковных обысков, в избах и светлицах, от живых жен и мужей. Подобные нарушения были отнюдь не единичны, но столь суровые последствия наступали лишь в случае вызывающе дерзкого поведения священника.
Однако у дворянства было особое сдерживающее начало - недвижимость. Нередко ротмистры и капитаны, разведясь самовольно или вообще не разводясь, вступали в «сумнительный брак», венчались и заводили детей. Родственники и знакомые могли вполне благожелательно воспринимать такой союз, пока дело не доходило до дележа наследства. Стоило главе семьи преставиться, как кто-нибудь из родственников сразу вспоминал о «незаконности» его брака и писал донос в Синод с целью вывести из череды наследников детей, родившихся от такого супружества.
Показателен в этом отношении случай майорши фон Мейер49. Разведясь самовольно с мужем-поручиком и получив от него разводное письмо, женщина вскоре вышла замуж за майора Петра фон Мейера и родила ему дочь. Брак Мейера признавался всеми родственниками и знакомыми, семейство было внесено в родословную книгу дворян Екатеринославской губернии, а дочь воспитывалась в московском институте благородных девиц. В 1805 г. Петр фон Мейер умер, оставив после себя имение и 240 душ крепостных. Вскоре умер и его брат Андрей. Тогда-то вдова Андрея фон Мейера и возбудила дело о недействительности брака своего деверя с тем, чтобы его имение отошло к ее собственным детям.
Судебные разбирательства по таким делам были многочисленны и могли тянуться десятилетиями50. Недаром специалисты, занимавшиеся разбором и публикацией дел из архива Синода, отмечали характерную черту бракоразводных дел XVIII в.: авторами доносов, инициаторами следствия и разбирательства выступали чаще всего частные лица, заинтересованные устранить «незаконных» родствен- ников от наследования поместий51. Ярким примером подобных конфликтов может служить дело полковника Засецкого. Он венчался от живой жены в 1739 г, умер в 1751 г, а его наследники судились между собой на предмет поместья вплоть до 1800 г.52
Церковная власть вязла в таких разбирательствах, доносах и кляузах, прекрасно отдавая себе отчет в бесплодности церковного суда над теми, кто уже покинул сей мир. Наконец Синод, терпение которого иссякло, в январе 1812 г. прямо и откровенно заявил, что доносы о незаконных браках нужно делать при жизни супругов-нарушителей, а не после их смерти, ибо большинство таких дел инициируется «по жалобам наследников, заключающих в себе не донос о таковых браках, а единственно иск об имениях»53. Духовные власти, говорилось в указе, отныне не будут рассматривать такие дела. Наследники могут судиться хоть до скончания века, но исключительно в светских присутственных местах.
Мы видим, что дворянство и простонародье на протяжении столетия после реформ Петра Великого встречали все большие затруднения в практике «самовольных разводов». С нижними чинами дело обстояло иначе. С одной стороны, постоянная территориальная мобильность и принципиальная невозможность контроля со стороны прихода отличали их (наряду с офицерами) от простолюдинов. С другой - бремя недвижимости не отягощало плечи солдат, а соображения о законности прав наследников - их умы. Понимающе-снисходительное отношение к проблеме незаконности детей отразили даже солдатские пословицы: «Богданушке все батюшки (о кантонистах, солдатских детях), «У солдата везде ребята», «Где ни пожил солдат, там и расплодился»54. Нижние чины не могли следовать моделям брачного поведения офицеров, которые одобрялись обществом после «Манифеста о вольности дворянства»: к 40 годам выйти в отставку и только тогда обзаводиться семьей. Солдаты подходили к самовольному разводу прагматично, запрашивая в качестве материальной компенсации за разводное письмо вполне разумную сумму. В источниках цифры варьируются от 2 руб. в начале XVIII в., до 50 руб. - в конце века55. Во всех обнаруженных нами случаях солдаты при составлении разводного письма получали деньги, но никогда их не платили.
* * *
Архивное дело, с которого мы начали рассмотрение феномена «солдатского развода», отражает трансформацию моделей брачного поведения, происходившую на протяжении XVIII в. В этом процессе присутствовали одновременно две разнонаправленные тенденции: усиление регламентации и бюрократического контроля со стороны Русской церкви за жизнью мирян и параллельное «просачивание» сквозь эту регламентацию противоположных, не канонических 18
практик.
Русская императорская армия играла в этих процессах серьезную роль, а «развод по-солдатски» отражал появление социального запроса на модернизацию института брака. Разводные письма, которые по обоюдному согласию подписывали своим женам солдаты и офицеры, явно свидетельствуют о том, что в их сознании укоренялись ростки отношения к браку как к гражданскому договору.
Снисходительно-понимающее восприятие самовольного развода как чего-то допустимого и почти «нормального» продолжало бытовать и за пределами армии, хотя на официальном уровне такая практика считалась неприемлемой и преступной.
Несмотря на недопустимость и незаконность самого деяния, участники самовольного развода чувствовали необходимость письменной фиксации договора и бережно хранили его как серьезный документ. Военные, в жизни которых письменная документация была привычным и одновременно немаловажным явлением (списки, уставы, приказы, рапорты), были склонны уважительно относиться и к рискованным разводным письмам. Модернизация страны проявлялась и в этом почтении к «бумаге»; век документа, бюрократии и регламентации диктовал свои правила.
Список литературы «Развод по-солдатски» в России XVIII века
- Freeze, G. Bringing Order to the Russian Family: Marriage and Divorce in Imperial Russia, 1760 – 1860. The Journal of Modern History, 1990, vol. 62, no. 4, pp. 709–746. (In English).
- Kaiser, D. Church Control over Marriage in Seventeenth-Century Russia. The Russian Review, 2006, vol. 65, no. 4, pp. 567–585. (In English).
- Nizhnik, N.S. “Zakonnoyu zhenoyu bud dovolen odnoyu”: voprosy mnogobrachiya v brakorazvodnom prave Rossiyskoy imperii [“With Only Lawful Wife be Satisfied”: The Issues of Poligamy.]. Istoriko-pravovye problemy: novyy rakurs [Digital Journal], 2011, no. 4-1, pp. 89–104. (In Russian).
- Nizhnik, N.S. “Zhenitba est, a razzhenitby net”: o probleme rastorzheniya braka v Rossiyskoy imperii [“There Is Marriage and there Is no Dismarriage”: About Problem of Divorce in the Russian Empire.]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii, 2012, no. 1 (53), pp. 27–33. (In Russian).
- Polyanskiy, P.L. O nekotorykh osobennostyakh rossiyskogo sudoproizvodstva po prelyubodeynym razvodam XVIII – XIX vv. (na primere vozmozhnykh prototipov geroev M.Yu. Lermontova) [Some Peculiarities of the Legal Procedure in the Scope of Divorces for Adultery in the 18th – 20th Centuries in Russia (On the Example of Possible Prototypes Characters of Mikhail Lermontov).]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11. Pravo, 2015, no. 2, pp. 54–67. (In Russian).
- Polyanskiy, P.L. “Sekulyarizatsiya” brachno-semeynykh otnosheniy v XVIII v. [“Secularization” of Marriage and Family Relations in the 18-th Century.]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11. Pravo, 2011, no. 4, pp. 52–69. (In Russian).
- Spichak, A.V. Dokumentalnoe oformlenie brakorazvodnykh protsessov v Tobolskoy eparkhii v XVIII – nachale XX vv. (po materialam GUTO “Gosudarstvennyy arkhiv v g. Tobolske”) [Documentary Registration of Divorce Proceedings in the Tobolsk Diocese in the 18th – the Beginning of the 20th Centuries (Based on the Materials of the State Archive in Tobolsk).]. Omskiy nauchnyy vestnik, 2015, no. 1 (135), pp. 44–47. (In Russian).
- Spichak, A.V. Dokumentirovanie protsessa vstupleniya v brak v Rossiyskoy imperii v XVIII – XX vv.: Istochnikovedcheskiy aspekt. Po materialam gosudarstvennogo arkhiva v g. Tobolske [Documenting of Marriage Process in Russian Empire in the 18th – 20th Centuries: The Source Aspect. (Based on the Materials of the State Archive in Tobolsk).]. Vestnik arkhivista, 2012, no. 4, pp. 40–54. (In Russian).
- Spichak, A.V. Evolyutsiya formulyara brachnogo obyska v prikhodskikh tserkvyakh Tobolskoy eparkhii v XVIII – nachale XX v. [Development of Marriage Search Records in Parish Churches of Tobolsk Diocese in the 18th – Early 20th Centuries.]. Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2016, no. 3, pp. 31–36. (In Russian).
- Tarusina, N.N. O fiktivnykh semeyno-pravovykh sostoyaniyakh [On Fictitious Family-Legal States.]. Pravovedenie, 1983, no. 2, pp. 84–87. (In Russian).
- Bisha, R. Marriage, Church, and Community in 18th-Century St. Petersburg. Women and Gender in 18th-Century Russia / Ed. by W. Rosslyn. Burlington (VT): Ashgate, 2003, pp. 227–242. (In English).
- Freeze, G.L. The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century. Cambridge (MA); London: Harvard University Press, 1977, 325 p. (In English).
- Malitskiy, N.V. Istoriya Pereslavskoy eparkhii (1744 – 1788 g.) [The History of the Pereslav Diocese (1744 – 1788).]. Vladimir, 1912, vol. 1, 408 p. (In Russian).
- Minenko, N.A. Russkaya krestyanskaya semya v Zapadnoy Sibiri (XVIII – pervoy poloviny XIX v.) [The Russian Peasant Family in Western Siberia (18th – the First Half of the 19th Centuries).]. Novosibirsk, 1979, 350 p. (In Russian).
- Nizhnik, N.S. Pravovoe regulirovanie semeyno-brachnyh otnosheniy v russkoy istorii [The Legal Regulation of Family and Marriage Relations in Russian History.]. St. Petersburg, 2006, 270 p. (In Russian).
- Tsaturova, M.K. Russkoe semeynoe pravo XVI – XVIII vv. [Russian Family Law of the 16th – 18th Centuries.]. Moscow, 1991, 108 p. (In Russian).
- Tsaturova, M.K. Tri veka russkogo razvoda (XVI – XVIII veka) [Three Centuries of Russian Divorce (16th – 18th Centuries).]. Moscow, 2011, 285 p. (In Russian).