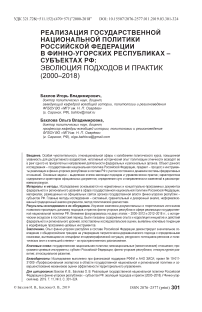Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в финно-угорских республиках - субъектах РФ: эволюция подходов и практик (2000-2018)
Автор: Бахлов Игорь Владимирович, Бахлова Ольга Владимировна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение. Особая чувствительность этнонациональной сферы к колебаниям политического курса, повышенная уязвимость для деструктивного воздействия, негативный исторический опыт политизации этничности возводят ее в ранг одного из приоритетных направлений деятельности федеральных и региональных органов. Объект данного исследования - государственная национальная политика Российской Федерации, предмет - процесс и инструменты реализации в финно-угорских республиках в составе РФ с учетом состояния и динамики системы федеративных отношений. Основные задачи - выделение этапов эволюции подходов и управленческих практик; характеристика содержания и ориентиров официальных документов; определение сути и направленности изменений в рассматриваемом ракурсе. Материалы и методы. Исследование основывается на нормативных и концептуально-программных документах федерального и регионального уровней в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, материалах, размещенных на официальных сайтах органов государственной власти финно-угорских республик - субъектов РФ. Главные методы исследования - системный, сравнительный и диахронный анализ, неформализованный традиционный анализ документов, метод политической диагностики. Результаты исследования и их обсуждение. Изучение комплекса документальных и теоретических источников позволило проследить динамику подходов и практик финно-угорских республик в сфере реализации государственной национальной политики РФ. Внимание фокусировалось на двух этапах - 2000-2012 и 2012-2018 гг., с историческим экскурсом в постсоветский период. Были показаны содержание опыта и корреляция инициатив и действий федерального и регионального уровней, сопоставлены исследовательские оценки, выявлены ключевые тенденции в модификации программно-целевых инструментов. Заключение. Опыт финно-угорских республик в составе Российской Федерации демонстрирует значительное совпадение с общероссийским трендом на утверждение патриотически-державнического подхода с определенными нюансами, вытекающими из специфики этнодемографической ситуации, ресурсного потенциала регионов и политических элит и в меньшей степени - их пространственного расположения.
Государственная национальная политика, межнациональные (межэтнические) отношения, программно-целевые инструменты, субъект российской федерации, финно-угорские республики, этнокультурное развитие, этносоциальное развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/147217930
IDR: 147217930 | УДК: 321.728(=511.152) | DOI: 10.15507/2076-2577.011.2019.03.301-324
Текст научной статьи Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в финно-угорских республиках - субъектах РФ: эволюция подходов и практик (2000-2018)
Отечественный опыт в области государственной национальной политики убеждает в несомненной значимости многоуровневого историко-политического контекста. Долговременной данностью для российской государственности является полиэтничность народов, принимавших деятельное участие в ее формировании и развитии, а ныне образующих многонациональный народ Российской Федерации (РФ). Обострение национального вопроса вкупе с другими факторами часто становилось катализатором системных кризисов, как это было, например, в поздний имперский, поздний советский и постсоветский периоды. Напротив, обоснование теми или иными политическими силами приемлемых вариантов его решения, предполагающих возможность гармоничного сосуществования внутри определенной государственной формы, – залогом стабилизации ситуации и выбора дальнейшего эволюционного пути. Необходимое условие при этом – выработка не только некоей формулы диалога и сотрудничества, ключевых принципов и направлений, но и адекватного инструментария их практического воплощения. В его структуру в Стратегии государственной национальной политики РФ включаются, в частности, документы стратегического планирования и государственные про-граммы1.
Сошлемся на конституционные предписания, из которых вытекает, что нормативные основы и стратегические ориентиры в рассматриваемой сфере закрепляются на федеральном уровне. Так, согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации находятся регулирование и защита прав национальных меньшинств; установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурно- го и национального развития РФ. В то же время к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72) отнесены, помимо прочего, защита прав национальных меньшинств, а также защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей2. Федеральные установления, воплощающиеся не только в Конституции РФ, но и в других законодательных актах, концептуально-стратегических и программных документах, конкретизируются на региональном уровне с учетом этнокультурного и иного своеобразия. Следовательно, речь идет о взаимодополняемости усилий федерального центра и субъектов федерации при непременном соблюдении верховенства федерального права.
Возвращаясь к историко-политическому ракурсу, мы можем вспомнить о далеко не безоблачном состоянии дел в политико-правовой и других плоскостях центрально-региональных отношений в постсоветской России. Парад суверенитетов, нигилизм, приватизация многих сфер государственной политики превратились тогда в устойчивые негативные характеристики стратегий позиционирования ряда субъектов. Проявления приверженности названным стратегиям обнаруживались и в сфере национальной политики. Асимметрия федеративного устройства, уходящая корнями в советскую эпоху, привнесла в них дополнительные элементы конфликтности. Между тем сложность состава населения России в целом и абсолютного большинства субъектов РФ при численном преобладании титульных наций лишь в немногих из них подобный сепаратизм объективно отвергает, поскольку противоречит потребностям укрепления территориальной целостности и межнационального согласия. Совокупность указанных обстоятельств побуждает обратить внимание на урегулирование межэтнических отношений в национально-государственных образова- ниях – республиках в составе РФ, специфический статус которых на пространстве федерации в политическом смысле сохранился. В их числе можно выделить республики, титульными нациями в которых являются финно-угорские народы, на протяжении столетий выступавшие сотвор-цами Русского / Российского государства. Соответственно объект данного исследования – государственная национальная политика Российской Федерации, предмет – процесс и инструменты ее реализации в финно-угорских республиках в составе РФ с учетом состояния и динамики системы федеративных отношений. Их анализ предполагает постановку и решение следующих задач: выделение этапов эволюции подходов и управленческих практик в области реализации национальной политики на региональном уровне; характеристика содержания и ориентиров нормативных и концептуально-программных документов финно-угорских республик в сфере реализации государственной национальной политики; определение сути и направленности свершившейся трансформации с позиции общегосударственных интересов, сохранения и развития потенциала народов, населяющих данные республики, а также возможностей самих регионов и их властей. В целом мы попытаемся прояснить ряд взаимосвязанных вопросов: о ключевых тенденциях федеративного строительства, этнополитического развития страны и регионов, о перспективах социально-политического консенсуса в реагировании на имеющиеся и потенциальные риски и вызовы, об эффективности действий органов государственной власти и территориального управления.
Обзор литературы
Непреходящая актуальность этнополитической проблематики в условиях сложного государства определяет ее устойчивую фокусировку в различного рода работах, посвященных как теоретико-концептуальным, так и практическим вопросам. В теоретико-концептуальном ключе для нас представляют интерес, во-первых, рассуждения о невозможности некритической универсализации опыта местных и иных обществ, их традиций и ценностей [36], во-вторых, изучение особенностей доктринального оформления, институционализации, подходов и категорий в сфере государственной национальной политики или более широко – этнополитики [2; 19]. В этой плоскости внимание авторов обоснованно концентрируется на концепции российской нации и общегражданского патриотизма, институциональных, инфраструктурных и прочих новациях [1; 8].
Совокупность вопросов, возникающих в сфере реализации государственной национальной политики РФ, чрезвычайно обширна. Это ее историко-политический контекст и динамика формирования и воплощения [22; 27; 29], специфика этнонационального развития России и регионов страны в современной политической ситуации в ракурсе неких ограничений [30; 31; 34]. Предпринимаются попытки показать степень преемственности между этапами и целыми эпохами, прогрессивности и эффективности проводимой политики. На этот счет высказываются противоположные суждения: от признания тесной связи и преемственности концептуальных оснований и практики российской этнополитики с теоретическими постулатами и практикой советского времени [3] до оспаривания подобных отсылок и даже отрицания существования централизованно определяемой и направленной национальной политики СССР [39]. Отметим, что зарубежные авторы склонны к утверждениям об ухудшении положения национальных меньшинств в РФ, даже об их маргинализации, хотя и признают наличие комплекса институтов управления этнолингвистическим разнообразием. Так, Ф. Прина считает, что дискурсы позиционирования подобных институтов (например, национально-культурных автономий), одобренные государством, намеренно размещаются в сфере культуры. С ее точки зрения, институты меньшинств, предпочитающие оставаться в рамках «культурного развития» национальностей, приспособились к политической реальности страны, но их деятельность наполнена политикой, создавая систему, в которой культура и по-
^u1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ литика в конечном счете сходятся [38]. М. Ларюэль, в свою очередь, размышляя о кажущейся опасности российского этнонационализма, указывает на достаточную гибкость власти, позволяющую ей адаптироваться к обстоятельствам [33].
В отечественных и зарубежных исследованиях заметно артикулирован этно-линвистический компонент: многие авторы видят важной составной частью государственной национальной политики языковую политику как в масштабах всей страны, так и на уровне субъектов РФ [7; 12; 20; 23; 24; 25; 32; 40]. Изучению подвергаются и другие региональные или локальные проявления российской этнополитики, а также опыт отдельных регионов либо их групп в пределах федеральных округов в ракурсе общероссийских событий и инициатив федеральной власти. Подобного рода работы составляют сейчас довольно весомую группу; их авторы оценивают содержание и направленность усилий региональных и местных органов, формы их работы и взаимодействия с общественными объединениями, региональные программно-целевые инструменты, динамику этнодемографической и этнолингвистической ситуации [9; 11; 16; 26; 28; 35; 37]. С точки зрения углубленного изучения собственно исторических аспектов рассматриваемой проблематики особо можно выделить труды А. А. Попова, Н. А. Нестеровой, С. К. Смирновой [18; 21]. Заслуживает упоминания попытка построения программных моделей управления в сфере национальной политики [15]. Также значимы работы, в которых освещаются результаты мониторинга и социологических исследований межэтнических отношений в регионах России [5; 6; 14; 17].
Отдельные группы образуют сборники материалов международных и всероссийских научных и иных мероприятий, а также издания Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) по обобщению этнополитического опыта в контексте финно-угорского сотрудничества и передовых практик российских регионов в плоскости межнациональных от-ношений3.
Резюмируя, выделим основные, по нашему мнению, пробелы в изученности сформулированной тематики. Во-первых, по большей степени это концентрация на опыте отдельных регионов, притом обычно в ограниченные отрезки времени и без увязки с опытом других субъектов РФ, хотя консолидированные усилия в данном направлении становятся гораздо более заметными. Во-вторых, пока явно недостаточно работ историко-политического и политико-правового плана, которые были бы нацелены на предметный анализ трансформации управленческих практик и оценку их эффективности в сфере реализации государственной национальной политики, включая оценку результативности конкретных программ и проектов.
Материалы и методы
Исследование основывается на нормативных и концептуально-программных документах федерального и регионального уровней в сфере государственной национальной политики РФ, материалах, размещенных на официальных сайтах органов государственной власти финно-угорских республик – субъектов РФ, статистической информации, иллюстрирующей динамику этнодемографической ситуации.
Главными методами исследования послужили методы системного, сравнительного и диахронного анализа, неформализованного традиционного анализа документов, формально-юридический метод, метод политической диагностики. Их применение позволило определить сменяющие друг друга на разных этапах подходы финно-угорских республик к реализации государственной национальной политики РФ, ключевые тенденции и закономерности, сопоставить содержательные и структурные характеристики, особенности позитивного и негативного опыта каждой из названных республик в изучаемом ракурсе, обобщить нормативные требования и обнаружить существующие уязвимости. В рамках многоуровневого анализа были показаны специфика и корреляция действий федерального центра и уполномоченных госорганов финно-угорских республик – субъектов РФ в сфере реализации государственной национальной политики, выявлены факторы и детерминанты эволюции стратегий их позиционирования.
Хронологические рамки исследования охватывают 2000–2018 гг., когда совокупностью инициатив высшего руководства страны было восстановлено единство политико-правового и коммуникативного пространства федерации и утвердились новые правила политического позиционирования для финно-угорских республик и остальных субъектов РФ.
Результаты исследования и их обсуждение
Предваряя обзор опыта финно-угорских республик – субъектов РФ в регулировании межнациональных отношений, представляется необходимым обозначить особенности национальной структуры населения в них (таблица).
Сложность состава населения всех финно-угорских республик – субъектов РФ по этническим и лингвистическим параметрам обусловливает содержательно-смысловую насыщенность принимаемых в них нормативных и концептуально-программных документов в сфере реализации государственной национальной политики и чувствительность этнокультурного и этнолингвистического измерений. Их своеобразие так или иначе закрепляется в конституционных актах. Например, в Конституции Республики Карелия устанавливается равнозначность наименований «Республика Карелия», «Карелия», «Карьяла» и оговаривается, что исторические и национальные особенности республики определяются проживанием на ее территории каре- лов (ст. 1), а ее социальную основу составляют взаимное уважение, добровольное и равноправное сотрудничество всех слоев общества, граждан всех национальностей (ст. 5). В преамбуле Конституции Республики Мордовия (РМ) выражается забота о сохранении и самобытном развитии народов, проживающих на ее территории и др.4
Одновременно особый политико-правовой статус финно-угорских республик как национально-государственных образований при относительной слабости региональных экономик и различное пространственное расположение, включая удаленность от столицы, взаимоотношения элитных групп были и в определенной степени остаются детерминантами вариативности их подходов и практик. Уменьшение контроля со стороны федерального центра в 1990-е гг. позволило республикам проводить более или менее самостоятельную линию по многим направлениям. В этнонациональной плоскости ее лейтмотивом стала ориентация на возрождение и развитие национальной культуры и языков. Показателен в этом плане, например, опыт Республики Карелия5.
Заметим, что изначально важную роль в закреплении подобного вектора играли не только государственные (республиканские), но и неправительственные институты (Национальный конгресс карелов, вепсов и финнов Республики Карелия и др.). Уже тогда одним из главных инструментов реализации национальной политики выступали целевые программы, содержание которых с течением времени существенно обогатилось и подверглось положительной диверсификации.
Серьезные перемены произошли в системах управления национальной политикой на уровне каждого из субъектов и в наполнении исследуемой сферы разнообразными нормативными актами. При этом, несмотря на оформление в целом региональных систем управления национальной политикой, как и федеральной,
^u1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таблица. Национальный состав населения финно-угорских республик – субъектов РФ*
Table. National composition of the population of the Finno-Ugric republics – subjects of the Russian Federation*
Проявилась и увязка общефедеральных и региональных новаций и инициатив, несмотря на обнаружившееся в постсоветский период стремление субъектов РФ к автономности управленческих решений. Так, в достаточно короткий срок в финно-угорских республиках были приняты документы, согласовывавшиеся с Концепцией государственной национальной политики РФ (1996 г.), повлиявшие в некоторой степени на их законодательство в части регулирования отдельных вопросов межнациональных отношений. Их совершенствование также стало коррелироваться с осознанием необходимости содействия развитию русского языка и русской культуры, разработкой и внедрением соответствующих программ. Вместе с тем встречаются критические оценки результатов начавшегося процесса по гармонизации законодательства субъектов РФ – в ракурсе прав коренных народов. В частности, речь идет о судьбе Вепсской национальной волости, утратившей в начале 2000-х гг. статус административно-территориального образо-вания6. Хотя стоит отметить, что именно в тот период федеральная власть стала уделять повышенное внимание защите прав коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и других регионов России. Специфика постсоветских условий побуждала допускать разные варианты сценарирова-ния: позитивный – «культурный» (развитие языков и культуры в рамках национальной автономии) и негативный – «политиче- ский» (выдвижение политических требований со стороны национально-радикальных движений и организаций). Согласимся с мнением, что стабилизация политической и национальной ситуации гарантировала благоприятное решение проблем этнокультурного развития [37]. В целом с начала 2000-х гг. практики финно-угорских республик – субъектов РФ в сфере реализации государственной национальной политики, как и в других сферах, обрели большую упорядоченность и большую степень институционализации. Проанализируем их ключевые компоненты, выделив два этапа: 1999/2000–2012 и 2012–2018 гг. «Водоразделом» между ними служит принятие Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года7.
В Республике Карелия первый указанный временной отрезок оказался довольно плодотворным. Так, была усилена государственная поддержка языков коренных на-родов8, расширены документальная база, инструментарий и спектр мероприятий. Были дополнительно акцентированы проекты и мероприятия для молодежи, сохранение и развитие этнокультурных, семейных, духовно-нравственных ценностей, формирование у подрастающего поколения этнической идентичности, гармонизация межнациональных отношений. Обосновывалась преемственность новых инициатив (например, Республиканской программы «Финно-угорская школа Республики Карелия» на 2000–2002 гг.) по отношению к прежним программам, подчеркивалась их направленность на национальное развитие всех народов Карелии9.
^u1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Еще более заметной стала увязка в этом ракурсе различных сфер государственной политики – национальной, молодежной, языковой, культурной, образовательной, а также с общим развитием республики. Во многом содержание действующих в рамках данного отрезка программ было ориентировано на Концепцию социально-экономического развития Республики Карелия на период 1999–2002–2010 годов и Концепцию развития культуры в Республике Карелия до 2008 года. Активизировалось взаимодействие органов и ведомств, ответственных за реализацию государственной национальной политики. Собственно, такой тренд проявился еще в конце 1990-х гг., когда формулировки официальных целей обогатились новыми выражениями. Проникает в эту сферу и термин «эффективность», повышению которой должны были способствовать в том числе межрегиональные и международные контакты10.
Приоритетом в течение данного этапа по понятным причинам оставалась этнокультурная сфера11. Однако осознание необходимости системности действий и мер воплотилось в итоге в утверждении важнейшего на тот момент с точки зрения комплексного подхода инструмента с акцентом на программно-целевом методе – Региональной целевой программы (РЦП), известной под названием «Карелия – территория согласия». Примечательно одно из положений данного документа: «…не оправдывает себя политика ситуативного и “лоскутного” решения проблем формирования межнациональных отношений, адекватности содействия межконфессиональным отношениям, разовой государственной поддержки национальных и религиозных общественных объединений, профилактики этнокультурного дискомфорта, этнокультурных конфликтов и этноэкстремизма». Здесь, в частности, намечались формирование региональной стратегии этнополитического, этносоциального и этнокультурного развития, усиление этнополитической, этносоциальной и этнокультурной и информационной коммуникативности республики. С позиции совершенствования управленческой практики заслуживают отдельного упоминания задачи 1.1–1.3, предполагающие в том числе развитие научно-исследовательских технологий. Отметим, что наряду с более широкой по содержанию целью 1 и целью 3, направленной на поддержку общественно значимых религиозных и национальных общественных объединений, в программе ставилась цель 2 – сохранение карелов и вепсов как уникальных самобытных этносов мирового сообщества12.
Содержание второго этапа (2012– 2018 гг.) характеризовалось продолжением усилий республиканских властей по воплощению в жизнь ранее сформулированных приоритетов национальной политики, разработкой и внедрением мер по реализации на территории Карелии положений названных выше указов Президента РФ. Новым ключевым концептуальным документом регионального уровня в этом контексте можно признать Стратегию национальной политики в Республике Карелия на период до 2025 года13. Данный документ по содержанию и структуре схож со Стратегией РФ. В нем также перечисляются достижения и специфические черты в сфере межнациональных отношений, влияющие на их состояние и достижение приоритетных целей и задач. Из особенностей обращают на себя внимание определение Карелии как многонационального субъекта РФ при значительном доминировании русских; указание на присутствие в общественном сознании «некоторой мигрантофобии», неприязни к нескольким национальным группам. В работе на перспективу наряду с традиционными направлениями выделяется сохранение культурного наследия Русского Севера.
На этом этапе основным инструментом реализации государственной национальной политики согласно федеральным установлениям в сфере стратегического планирования начинают выступать государственные программы, причем с пролонгированным сроком действия. Также новые республиканские документы сопрягаются между собой, вписываясь в видение дальнейшего развития республики на основе многолетнего опыта взаимодействия и взаимного обогащения различных культур и этносов14.
В действующей базовой программе15 в сфере реализации государственной национальной политики артикулируются вопросы этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов, что вновь по- казывает преемственность расстановки акцентов. С другой стороны, в русле наметившейся новой тенденции в предметное поле документа интегрируются и эт-нолокальные группы коренного русского населения – заонежане, пудожане и поморы. Подчеркивается, что сформированная цель полностью соответствует целям федерального уровня16.
Достижение приоритетов, определенных программно-концептуальными документами Республики Карелия, обеспечивается комплексом разнообразных мероприятий, многие из которых приобрели постоянный характер (краеведческая конференция «Лонинские чтения», этнокультурный лагерь «Встреча юных на карельской земле» и др.), акций («Мы разные, но мы равные» и др.), проектов («Маршрут дружбы по районам Карелии» и др.) встреч-бесед и уроков-встреч («Карелия – наш общий дом», «Карелия – территория согласия» и др.) и т. д. Поддерживается участие представителей республики в международных и межрегиональных мероприятиях финноугорского сотрудничества [10]17.
Республику Коми (РК) с Карелией сближает несколько обстоятельств, накладывающих отпечаток на ее практику в сфере реализации государственной национальной политики. В первую очередь это расположение в Арктической зоне (что позволяет относить некоторые народы, проживающие в республике, к категории КМНС), территориальная удаленность от
^u1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ столичного центра, особое внимание к этнолингвистической ситуации. Об этом свидетельствует содержание соответствующего регионального закона, в котором государственными языками республики провозглашаются коми и русский языки (именно в такой последовательности), при этом гарантируется сохранение и развитие языка коми народа и других народов, проживающих в республике, а русский язык признается основным средством межнационального общения18. Заметим, что подобный закон в Коми появился одним из первых: по выражению Ф. Х. Соколовой, на «волне всплеска этничности и стремления регионов к максимальной суверенизации». Вследствие слабости нормативно-правового регулирования языковой политики на федеральном уровне в конце XX – начале XXI в. деятельность в данном направлении осуществлялась на основе местной инициативы и собственного видения проблемы, породивших в том числе негативные последствия в виде автономизации регионального (национально-регионального) компонента, понижения уровня его связи с русским языком и культурой и т. п. [23, 39–42]. Примечательна в этом контексте формулировка цели Государственной программы по реализации Закона РК 1992 г.: «...создание необходимых условий для дальнейшего развития родного языка коми народа, яв- ляющегося основой государственности Республики Коми»19. Вместе с тем еще в первой части программы предполагалось создание условий для равноправного функционирования государственных коми и русского языков и намечалась разработка второй ее части – «Сохранение и развитие русского языка», каковая также была принята, но гораздо позже запланированного срока20. В Концепции государственной национальной политики Республики Коми отмечалось, что два крупнейших этноса республики – коми и русский – формируют основу ее современного этнополитического облика и что феномен многонационального состава населения заключает в себе мощный созидательный потенциал. Документ был ориентирован на сохранение языков всех национальностей в республике, создание условий для развития национальных школ и т. п.21
В рамках этапа 2000–2012 гг. этноязыковой и этнокультурный (образовательный) компоненты составляют основное содержание мероприятий по реализации государственной национальной политики в Республике Коми посредством ряда республиканских программ22 в соответствии с федеральными и республиканскими законодательными актами. Акцентируется реализация гражданами права на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов РФ, а также права на изучение родного языка из числа языков народов РФ23. Налицо существенное совпадение с трансформацией векторов языковой и образовательной политики Карелии в плане обеспечения условий сохранения и развития также русского языка (и развития русской этнокультурной школы как основы сохранения и развития языков и культур коми и русского народов). Постепенно усиливаются информационнокоммуникационный компонент с акцентом на взаимодействии республиканских и муниципальных учреждений культуры, образования, науки, общественных организаций, средств массовой информации и осознание опасности унификации культур вследствие ускоряющейся глобализации. В числе ожидаемых результатов в документах этого этапа появляются более широкие по содержанию – формирование толерантного поведения населения республики и профилактика национального экстремизма; позитивное развитие этнополитической ситуации.
Следующий этап (2012–2018 гг.) увязывается с закреплением приоритетов, целей, принципов, задач и основных направлений национальной политики в Республике Коми в соответствии с новыми федеральными установлениями: «политика поддержки многообразия культур сохранялась, но приоритеты национальной политики были смещены в сторону укрепления единства многонационального народа и государства на принципах демократии и общегражданской солидарности» [22, 54–67]. Целевая направленность главного документа республиканского уровня в этой сфере – укрепление государственного единства и целостности РФ, формирование общероссийской гражданской иден- тичности многонационального по своему составу населения Республики Коми, развитие национальных языков и культур ее народов24. Примечательны формулировки задач в сфере государственной языковой политики, показывающие определенные коррективы. Этнокультурное наследие продолжает восприниматься как одна из необходимых скреп единства и развития, но выражается опасение по поводу его частичной утраты. Неслучайно уделяется повышенное внимание запланированным мероприятиям (проекты «Диалог на равных», «Гордость народа – родной язык» и др.). Озабоченность высказывается и по поводу ограничения применения государственного коми языка преимущественно в гуманитарной сфере, отсутствия его широкого распространения в общественно-политическом пространстве25. С другой стороны, есть мнение, что коми язык и культура активно используются в брендировании территории региона [20, 37].
В более обширном поле межнациональных отношений базовым инструментом реализации государственной национальной политики на уровне региона является программа, адаптированная к более поздним республиканским доку-ментам26. Поставленные здесь задачи, на наш взгляд, отвечают потребностям укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России с учетом специфики региона и интересов проживающих здесь коренных малочисленных народов и существенно дополняют республиканскую Стратегию 2015 г., в которой имеются, по некоторым оценкам, серьезные пробелы [16, 141–142 ]. Отметим, что, в новой Стратегии социально-экономического развития республики гармонично развивающиеся межнацио-
(ru' ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ нальные отношения усматриваются в числе ее конкурентных преимуществ27.
В Республике Марий Эл (РМЭ) необходимые законодательные и концептуальные основы подхода к регулированию межнациональных отношений были заложены также в 1990-е гг. Стоит подчеркнуть, что изначально соответствующая проблематика в республике была вписана в достаточно широкий контекст. Подтверждением тому служит, например, Закон РМЭ «О культуре»28. Им, в частности, закреплялось равное достоинство культур народов всех национальностей РМЭ, их прав и свобод в области культуры (ст. 6). Закон включает целый раздел «Права и свободы народов и иных этнических общностей в области культуры (раздел III), где говорится в том числе о поддержке в РМЭ национальных центров культуры, обществ и землячеств (ст. 21), государственной поддержке малочисленных этнических общностей на территории республики (ст. 22), моральной, организационной и материальной поддержке культурно-национальных организаций народа мари за пределами РМЭ (ст. 23). В Законе «О языках в Республике Марий Эл» утверждается неотъемлемое право граждан любой национальности на развитие их родного языка и культуры29. Статус государственных языков закрепляется за марийским (горным и луговым) и русским языками (ст. 1). Предусматривается активное содействие РМЭ изучению марийского языка за пределами республики и установлению более тесных языковых контактов и связей с финно-угорскими народами, проживающими как в РФ, так и за ее ру- бежами (ст. 3). Национально-региональный компонент в обучении и воспитании был важной составной частью Государственной программы развития РМЭ на 1995– 2000 годы30.
Практическое воплощение закрепленных основ в 2000–2012 гг. осуществлялось несколькими республиканскими программами в сфере этнокультурных и межнациональных отношений31, гармонизация которых рассматривалась в контексте развития региона. В них акцентировались определенные задачи в области национальной политики. Характерными становятся понятия общегосударственной гражданской идентичности и самосознания, государственного патриотизма. Значительно сместился фокус актуализируемой проблематики – к приоритетности внутренней политики многонационального федеративного государства и национальной безопасности. Одновременно сохранилась концентрация на языковом вопросе. Для решения этого и других вопросов предназначались разнообразные проекты и мероприятия (информационно-просветительские, научноисследовательские и др. – «Культурный плюрализм», «Этнокультурная интеграция в Республике Марий Эл» и т. д.).
На этапе 2012–2018 гг. проявились сходные с другими республиками тенденции, интегрированные в общероссийский контекст. Любопытно, однако, что в РМЭ соответствующий документ, призванный обеспечить реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ, был назван иначе, чем в Карелии и Коми32.
От предшествующей Концепции 1997 г. он отличается проявившимися в рамках предыдущего этапа акцентами: Концепция 2015 г. разработана в целях «… укрепления государственного единства и целостности России , сохранения этнокультурной самобытности народов Российской Федерации , проживающих в Республике Марий Эл», ее реализация «…призвана стать мобилизующим фактором, способствующим укреплению единства народов Российской Федерации , проживающих в Республике Марий Эл» (курсив наш. – И. Б., О. Б. ). Одновременно в перечне вопросов государственной нацио нальной политики Республики Марий Эл (сохранена такая формулировка. – И. Б., О. Б. ) заметен довольно объемный этнокультурный марийский компонент – вопросы возрождения, сохранения, развития и приумножения этнокультурного достояния всего марийского народа. Наблюдается иная расстановка (последовательность) государственных языков РМЭ: русский и марийский (горный, луговой) . Подчеркивается, что общие «для всей современной России вопросы этнокультурного развития русского народа являются неотъемлемой составной частью государственной национальной политики Республики Марий Эл». Заметим, что характеристики состояния межнациональных (межэтнических) отношений в РМЭ коррелируются с оценками на основе социологических исследований (стабильность, мирное взаимодействие, межкультурная толерантность и др.) [35].
Главными инструментами реализации национальной политики РМЭ также признаются разнообразные программы, в том числе муниципальные. Основная на текущий момент – Государственная программа «Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013– 2025 годы»33. Она включает две подпрограммы – «Этнокультурное развитие, межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл», «Поддержка и развитие средств массовой информации и книгоиздания». Формулировка целей сходна с формулировками, закрепленными в Концепции 2015 г., задачи же более адаптированы к специфике республики (создание условий для реализации проектов в области марийского языка, проектов и мероприятий по сохранению и популяризации народных календарнообрядовых обычаев, традиций, юбилеев и праздников и др.). Этнокультурные цели (сохранение и развитие многонационального культурного наследия; поддержка развития уникальной культуры народов Российской Федерации, проживающих в Республике Марий Эл, и др.) намечены и в некоторых других программах34.
В Республике Мордовия в реализации национальной политики имеются как схожие, так и отличные от опыта рассмотренных ранее республик черты. Так, в РМ государственными языками провозглашаются русский и мордовский (мокшанский и эрзянский) языки (именно в указанной последовательности) (ст. 3), недопустимость пропаганды вражды и пренебрежения к любому языку, дискриминации по языковому признаку (ст. 4). В Законе РМ «О государственных языках Республики Мордовия» имеется глава 6, в которой предусматривается содействие сохранению, развитию и изучению мордовского (мокшанского и эрзянского) языка и национально-культурному развитию мордвы, проживающей за пределами республики (ст. 25)35. Нормативные акты РМ в области культуры не содержат явно выраженного этнического компонента. Это касается как прежнего закона в этой области – «О государственной поддержке культуры» (где речь шла, в частности, о реализации республиканских целевых программ сохранения и развития культу-
^u1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ры народа, проживающего на территории Республики Мордовия), так и действующего сейчас – «О культуре в Республике Мордовия»36. Тем не менее законодательно закреплена направленность на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и народных ремесел, основанных на коллективном опыте предыдущих поколений как части самобытной региональной культуры и важного элемента национального насле-дия37.
На этапе 2000–2012 гг. во многом задачи гармонизации межэтнических отношений (повышение толерантности, укрепление единства и дружбы народов РМ и др.) решались в ходе реализации республиканских целевых программ патриотического воспитания (на 2002– 2005 и 2007–2010 годы)38. Подчеркнем, что в этих документах выражались осознание значимости фактора многонационального состава РМ и связанного с ним многообразия национально-этнических культур для общественного прогресса. Соответствующий план действий намечал разработку и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального сотрудничества, общегражданской идентичности, межнациональных отношений и содействие этнокультурному развитию народов, проживаю- щих на территории РМ и за ее пределами и др. Они затрагивали плоскость взаимодействия органов государственной власти РМ и местного самоуправления в РМ, общественных и религиозных объединений РМ, научно-исследовательской деятельности, проведения этнографических, этносоциальных и этнополитических исследований, содействия этнокультурному развитию народов РМ, развития информационного пространства, содействующего формированию культуры межнациональных отношений, профилактики и противодействия этническому экстремизму и др.39
Этап 2012–2018 гг. оказался более насыщенным с точки зрения выработки и внедрения в республиканскую практику программных инструментов реализации государственной национальной политики, охвативших разные сферы. Ее целевые ориентиры на территории РМ, сопрягавшиеся со Стратегией РФ 2012 года40, конкретизировались и детализировались в ряде республиканских целевых программ. Проявился акцент на задаче повышения привлекательности РМ как центра финно-угорской культуры, образования, науки и этнотуризма41. Отмечаются определенные успехи в области этнокультурного образования42. Закрепилась практика проведения многоплановых мероприятий (например, республиканских национально- фольклорных праздников «Акша келу», «Раськень озкс», «Велень озкс», конкурса «Зеркало нации» на лучшее освещение в СМИ пропаганды культурного многообразия, этнокультурных ценностей, толерантных отношений). Показательны сами их названия: лагерь финно-угорской молодежи «Созидание», Всероссийский форум мордовской молодежи «Все мы – Россия», комплексная этнографическая экспедиция «Единение», выставка «Мордовия многонациональная» и др., отражающие смысловые характеристики заявленных приоритетов в сфере государственной национальной политики РФ.
Одновременно в республиканских документах, как и в российских, помимо положительных изменений и тенденций, выявляются негативные, в том числе рост национализма, ксенофобии, усиление миграционных процессов43. Неслучайно в основной действующей на данный момент в Мордовии республиканской целевой программе выделяются 2 подпрограммы – «Укрепление гражданского единства и гармонизация этноконфес-сиональных отношений в Республике Мордовия», «Реализация комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и общероссийской гражданской идентичности»44. В числе ожидаемых результатов ее реализации – повышение уровня этнокультурной компетентности государственных и муниципальных служащих; решение имиджевых задач позиционирования Мордовии как крупного культурного центра гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; содействие интеграции этнических диаспор, формирующихся в рамках миграционных процессов, в местное региональное сообщество. Констатируется сохранение в республике благоприятного климата межнациональных и межконфессиональных отношений, признается необходимость проведения обоснованной и взвешенной этнокультурной и национальной политики, отвечающей интересам всех жителей республики, пропаганды общероссийской идентичности среди населения Мордовии. Подобная констатация согласуется с оценками специалистов, ссылающихся на данные мониторинга состояния межэтнических и межконфессиональных отношений и фо-кус-групповые исследования, позволившие, например, говорить об иерархии коллективных идентичностей с общероссийским национально-гражданским самосознанием во главе [6, 135–136; 14, 60]. Следует подчеркнуть, что действующая республиканская целевая программа основана на концептуальном системном подходе по противодействию возможным проявлениям террористического и экстремистского характера, отличаясь комплексно-межотраслевым и социально ориентированным характером, учетом не только внутриреспубли-канской ситуации, но и «вызовов общероссийского контекста общественных отношений».
В Удмуртской Республике (УР) можно видеть несколько больший акцент на этнолингвистической ситуации, но в общих чертах ее опыт сопоставим с опытом РМ. Государственными языками здесь провозглашаются русский и удмуртский языки , при этом удмуртский язык признается основой национальной культуры удмуртского народа, а русский язык – основным средством межнационального общения народов Удмуртской Республи-
^u1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ки. Одновременно гарантируются многоязычие, свобода выбора и использования языка (ст. 3)45.
Как и во многих других национальных регионах, специфическая фактура языковых и межэтнических отношений, по словам Е. А. Тороховой, вкупе с историкокультурными традициями обусловливает более пристальное внимание к удмуртскому языку. В постсоветский период предпочтение отдавалось дифференцированному подходу к разработке мер по защите языков (в частности, в Государственной Программе УР по сохранению и развитию языков от 14 июня 1994 г.). В последующих документах усматривается большая сбалансированность, и языковая политика в УР направлена на расширение общественных функций удмуртского языка как второго государственного языка, сохранение родных языков этнических диаспор и вместе с тем поддержание престижа русского языка [25, 152–153, 157 ]. Однако в некоторых оценках наблюдается значительный скепсис относительно перспектив огосударствления удмуртского языка и реального равноправия обоих государственных языков [13, 173 ].
Сближает с Республикой Мордовия Удмуртию тесная корреляция с ценностями единства и целостности России. Она прослеживалась еще в Концепции государственной национальной политики Удмуртской Республики 1997 г.46, несмотря на свойственные тому периоду апелляции к удмуртской государственности и праву удмуртской нации и народа Удмуртии на самоопределение. В документе содержались компромиссные, на наш взгляд, выражения «возрастающая самостоятельность Удмуртской Республики и необходимость упрочения общероссийской государственности», «совершенствование государственности Удмуртии на основе демократических принципов федерализма, обеспечивающих необходимое сочетание самостоятельности республики и целостности Российского государства» и т. п., обусловленные спецификой этнополитической ситуации в республике. При этом особо подчеркивалось, что «полиэт-ничностъ общества – это поле развития и созидательной деятельности всех народов многонациональной Удмуртии и что национальный вопрос не должен становиться предметом политической конъюнктуры и спекуляций в борьбе за власть». Примечательно, что в концепции отмечалась зависимость дальнейшего упрочения межнациональных отношений и перспективы сотрудничества народов УР от самочувствия, позиции и исторической ответственности русского народа, от своевременного разрешения его проблем и учета им интересов удмуртского и других народов, что предвосхищало тенденцию второго выделяемого нами этапа. При определении сути подхода УР к реализации государственной национальной политики важны имеющиеся в данном документе ссылки на необходимость опоры на учет общественного мнения, научный анализ и прогноз, оценку последствий принимаемых решений, всеобъемлющий, стратегический характер национальной политики, единство позиций всех органов государственной власти и местного самоуправления республики, различных политических и общественных движений.
Этнокультурный компонент был весьма заметным в содержании республиканских программ обоих этапов. Показательными в этом смысле были РЦП и другие документы в сфере продвижения этноязыковой политики, ориентированные в том числе на формирование и развитие этнокультурной и общероссийской идентичности средствами образования. Приоритетами национальной образовательной политики объявлялись удовлетворение этнокультурных и языковых образовательных потребностей народов РФ в сопряже- нии с сохранением единства федерального культурного, образовательного и духовного пространства, обеспечение внутренней устойчивости этнически разнородного общества, его сплочения в согражданство47. С 2015 г. в республике актуализировался вопрос о необходимости Концепции развития этнокультурного образования [11].
Этап 2012–2018 гг. в Удмуртии, как и в других республиках, характеризовался принятием концептуально-программных документов, соответствующих духу и сути Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и последующих федеральных актов и решений в этой сфере и во многом продолжающих обозначившиеся линии в республиканской практике48. Этнический фактор в них увязывается с успешной модернизацией государства и общества. Сохраняется приверженность комплексному подходу к решению задач государственной национальной политики Российской Федерации на территории Удмуртской Республики с учетом ее межотраслевого характера. Предусматривается поддержка удмуртов, проживающих за пределами республики, и их национальнокультурных объединений в сохранении и развитии родного языка, образования, культурных и национальных традиций. Закрепляется государственная поддержка этнокультурного и языкового многообразия УР, этнокультурного развития народов РФ, проживающих на территории республики, проявляется особое внимание к устойчивому экономическому, социальному и культурному развитию коренного малочисленного народа РФ – бесермян. Приоритеты реализации государственной национальной политики конкретизируют- ся в задачах и мероприятиях (Межрегиональный форум муниципальных образований «Мир в диалоге», республиканская молодежная этнографическая игра «Этноэксперт», республиканская гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества», культурно-просветительские мероприятия «Удмуртия мультикультур-ная», межрегиональный фольклорный этнофестиваль национальной бесермян-ской культуры, республиканский фестиваль-конкурс удмуртской культуры «Даур гур» и др.) в рамках программы, рассчитанной на 2013–2024 гг.49 Показательно, что на первое место в ней ставятся задачи содействия формированию и развитию общероссийского гражданского патриотизма и солидарности и сведения к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории республики. Разумеется, учитываются региональные этнонациональный и этнокультурный компоненты: предусматриваются, например, развитие системы повышения этнокультурной компетентности государственных и муниципальных служащих; укрепление статуса удмуртского языка как одного из государственных языков УР, формирование необходимых общественно-государственных, социально-культурных гарантий его функционирования и др.
Итак, трансформация практик всех финно-угорских республик в сфере реализации национальной политики была постепенной и достаточно последовательной, преимущественно коррелировалась с выдвижением инициатив федерального центра и в целом – устранением перекосов в системе федеративных отношений, образовавшихся в 1990-е гг. В этнополитической плоскости ни одна из
^u1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ финно-угорских республик не вызвала чрезмерной озабоченности федерального центра; их линии в значительной степени совпадали с приоритетами, обозначенными в ключевых федеральных документах, начиная с Концепции национальной политики РФ 1996 г. Вместе с тем и в постсоветский период, и уже в современности наблюдались и отчасти сохраняются в большинстве своем объективные проявления «особости», обусловленные многонациональностью регионов и некоторыми иными параметрами.
Заключение
Суть эволюции подходов и практик в сфере реализации государственной национальной политики финно-угорскими республиками – субъектами РФ к настоящему времени видится в замещении сложившихся в постсоветский период умеренно-автономистских течений, основанных на локальных этнокультурных ценностях, патриотически-державниче-ским трендом, питаемым восстановлением единства и целостности пространства федерации и базирующимся на концепции российской нации, в которой совмещаются идеи общегражданской и этнокультурной идентичностей. Проведенный анализ убеждает, по крайней мере, в формальном доминировании соответствующих паттернов в опыте всех рассмотренных регионов. Представляется уместным употребить именно это выражение, поскольку утвердившаяся повторяемость и последовательность региональных действий в определившемся направлении не может и не должна абсолютизироваться. Несмотря на обнаруженные общие черты, каждая из республик обладает также уникальным набором характеристик, в том числе этнополитического и этнокультурного плана, которые побуждают акцентировать динамичность и вероятностность неких шаблонных моделей и учитывать комплекс факторов при выработке управленческих решений.
Высказанное соображение подводит к мысли, что любое обобщение опыта финно-угорских республик в анализируемом ракурсе путем моделирования может быть лишь условным и относительным.
В нашем случае можно отталкиваться от специфики позиционирования республики в системе федеративных отношений и следования федеральным требованиям. Сложившиеся политические обстоятельства и существенная зависимость от федеральных вливаний обусловливают утверждение «лоялистски-центристской» модели, на крайних полюсах которой размещаются Республика Мордовия (наименее склонная к проявлениям этноцентризма) и Республика Марий Эл (содержание официальных документов которой вроде бы убеждает в принятии общероссийских ориентиров, однако в ней единственной, опять же официально, употребляется выражение «государственная национальная политика Республики Марий Эл», что противоречит не только показанному тренду, но и конституционным предписаниям). Также можно говорить о сохранении отдельных моментов, подчеркивающих государственность республики, в практике Удмуртии. В Карелии и Коми в силу большей сложности этнодемогра-фической и геополитической ситуации привлекает внимание артикуляция этнокультурного компонента, но не в ущерб императивам общегражданской идентичности и межнационального согласия. В целом, опыт всех финно-угорских республик в рассматриваемой сфере можно оценить как конструктивный, способствующий продвижению позитивных образов в общественном сознании и управленческих практиках.
При этом неслучайно в действующих концептуально-программных документах федерального и регионального уровней детерминанты этнонациональных рисков усматриваются также во внешней плоскости, включая негативные последствия миграции. Меняющаяся структура миграционных потоков и в результате – населения во многих субъектах РФ актуализирует важность интеграционной составляющей национальной политики, к тому же в неблагоприятной практически для всех финно-угорских республик этнодемографи-ческой ситуации, особенно для Карелии, единственной из них занимающей приграничное положение. С другой стороны, внешнее измерение предполагает не только явные и скрытые источники рисков и угроз, но и дополнительные перспективы этнокультурного и этносоциального развития народов, проживающих на территориях финно-угорских республик, в первую очередь благодаря связям с родственными народами и дружественными России государствами. Указанный момент регионами, безусловно, принимается в расчет и активно озвучивается во многих программах, проектах, инициативах и др., вписываемых в контекст совместных мер по реализации государственной национальной политики. В этом смысле необходимо дополнительно исследовать направления и результаты координации сотрудничества посредством разнообразных форумов и площадок, функционирующих на внутригосударственном и международном уровнях (Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации, Всемирный конгресс финно-угорских народов и некоторые другие).
С технологической точки зрения реализация государственной национальной политики сейчас во многом увязывается с программно-целевым методом и комплексным подходом. При всех их преимуществах, особенно в сложном государстве и многонациональных регионах, не сле- дует забывать и о потенциальных уязвимостях и опасностях. Прежде всего речь идет о программно-целевом методе, на котором базируются все республиканские программы этносоциального и этнокультурного развития. Во-первых, часто целевые индикаторы и планируемые результаты сводятся к формальным показателям (доля граждан, охваченных мероприятиями и др.), притом степень достижения которых не всегда можно оценить верно и полно – не только из-за их специфики, но и из-за отсутствия необходимой информации. Во-вторых, абсолютное большинство российских регионов, включая финноугорские республики, относится к реципиентам федеральных субсидий и далеко не всегда располагает достаточными средствами для практического своевременного осуществления принятых программ, намеченных мероприятий и т. п. В более благоприятном положении в этом плане находится Республика Коми. На наш взгляд, остается насущным внедрение в управленческие практики подлинного партнерства государственных и муниципальных органов и негосударственных институтов, что также декларируется в региональных документах, при должном научно-методическом и информационно-пропагандистском обеспечении.
Список литературы Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в финно-угорских республиках - субъектах РФ: эволюция подходов и практик (2000-2018)
- Абдулатипов Р. Г., Михайлов В. А. Россия в XXI веке: общенациональный ответ на национальный вопрос. М.: Этносоциум, 2016. 102 с.
- Аствацатурова М. А., Воронцов С. А., Зорин В. Ю., Понеделков А. В. Доктринальные принципы и эмпирические ресурсы современной этнополитики в Российской Федерации (региональный аспект) // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2018. № 3. С. 156-169. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35209304 (дата обращения: 17.07.2019).
- Ачкасов В. А. "Национальная революция" большевиков и "национальная политика" современной России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Политология. Международные отношения. 2018. Т. 11, № 1. С. 3-14. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34913582 (дата обращения: 17.07.2019).
- Бахлов И. В., Бахлова О. В. Правовая политика РФ в области нациестроительства: направления и результаты деятельности парламентских комитетов // Сравнительный федерализм. Ежегодник-2018: сб. науч. тр. / под ред. А. Д. Гулякова, А. Ю. Саломатина, А. В. Малько. Пенза, 2018. С. 125-133.
- Богатова О. А., Карьгин А. И. Мониторинг межэтнических отношений в регионе // РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY. 2011. № 4. С. 266-277. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17721832 (дата обращения: 17.07.2019).
- Долгаева Е. И. Факторы общероссийской национально-гражданской идентичности в интерпретации жителей полиэтнического региона // РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY. 2018. Т. 26, № 1. С. 123-140. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32734925 (дата обращения: 17.07.2019).
- Дьяконова М. В. Современный статус и перспективы ревитализации финно-угорских языков в Республике Карелия // Ежегодник финно-угорских исследований. 2016. № 3. С. 156-167. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27239576 (дата обращения: 17.07.2019).
- Зорин В. Ю. Российская этнополитика на современном этапе: традиции и инновации // Вестник Российской нации. 2019. № 2. С. 9-33. URL: http://rosnation.ru/wp-content/uploads/2019/07/ВРН-2019-№-2-полнотекст.pdf (дата обращения: 27.07.2019).
- Изергина Н. И. Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений в субъектах Российской Федерации (на примере Республики Мордовия) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2016. Т. 16, № 3. С. 322-326. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27258574 (дата обращения: 17.07.2019).
- Иноземцева В. А. Национальная политика Республики Карелия по этнокультурному развитию коренных народов // Карелия - приграничный регион России в XX-XXI веках: формирование и становление карельской государственности в составе СССР/России: сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. О. И. Кулагин. Петрозаводск, 2018. С. 114-120.
- Касимов Р. Н. О важности развития системного этнокультурного образования в Удмуртской Республике // Восточно-европейский научный вестник. 2018. № 2. С. 9-14. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35185930 (дата обращения: 17.07.2019).
- Кондратьева Н. В., Степанова О. А. Формирование общественно-политической лексики удмуртского языка как отражение процессов языкового строительства // Финно-угорский мир. 2018. Т. 10, № 2. С. 26-36. URL: http://csfu.mrsu.ru/arh/2018/2/26-36.pdf (дата обращения: 17.07.2019).
- Корепанова Т. Л. Использование удмуртского языка при опубликовании законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти Удмуртской Республики // Вестник Удмуртского университета. Сер.: Экономика и право. 2015. Т. 25, вып. 1. С. 170-173.
- Лубяной М. С., Морозова Н. М. Межэтнические отношения как элемент социального развития // Вестник Института социологии. 2014. № 1. С. 56-75. URL: https://www.vestnik-isras.ru/files/File/Vestnik_2014_8/Lubyanoi.pdf (дата обращения: 17.07.2019).
- Маклашова Е. Г. Управленческие акценты региональных программ по реализации национальной политики (на примере Дальнего Востока) // РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY. 2017. Т. 25, № 4. С. 512-533. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30742940 (дата обращения: 17.07.2019).
- Минчук О. В. Этнонациональная политика Республики Коми: нормативное и инфраструктурное обеспечение // Арктика и Север. 2016. № 25. С. 137-147. URL: https://narfu.ru/upload/iblock/aff/10_minchuk.pdf (дата обращения: 17.07.2019).
- Полутин С. В., Шумкова Н. В., Чушкин А. М. Этноконфессиональная ситуация в Республике Мордовия: социологический аспект // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2018. № 1. С. 134-147. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35605154 (дата обращения: 17.07.2019).
- Попов А. А., Нестерова Н. А. Национальный вопрос в Республике Коми в конце XX века (историческое исследование). Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2000. 180 с.
- Похожаев В. И. Государственная национальная политика в современных условиях, ее содержание и особенности // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2019. Т. 9, № 6. С. 850-855. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38525834 (дата обращения: 27.07.2019).
- Савтенко Е. В. Коми язык в образовательном и общественном пространстве Республики Коми // Культурное наследие России. 2016. № 3. С. 33-38. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27534341 (дата обращения: 17.07.2019).
- Смирнова С. К. Феномен Удмуртии. Этнополитическое развитие в контексте постсоветских трансформаций. М.; Ижевск: Удмуртия, 2002. 560 с.
- Соколова Ф. Х. Эволюция национальной политики России в конце XX-XXI века // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2016. № 6. С. 54-67. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27496314 (дата обращения: 17.07.2019).
- Соколова Ф. Х. Языковая политика арктических регионов РФ в конце XX - начале XXI века // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 6. С. 37-50. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30764400 (дата обращения: 17.07.2019).
- Тишков В. А. Языковая ситуация и языковая политика в России (ревизия категорий и практик) // Полис. Политические исследования. 2019. № 3. С. 127-144. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37536271 (дата обращения: 27.07.2019).
- Торохова Е. А. О языковой политике в Удмуртской Республике // Вестник Удмуртского университета. Сер.: История и филология. 2012. № 2. С. 152-158. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17831526 (дата обращения: 17.07.2019).
- Фомичев Н. П. Никульченков Е. И. Реализация государственной национальной политики в Республике Карелия на современном этапе // Управленческое консультирование. 2005. № 3. С. 212-216. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12798688 (дата обращения: 17.07.2019).
- Цыпанов Е. А. Опыт периодизации национально-языковой политики в Республике Коми (от начала XX в. до наших дней) // Финно-угорский мир. 2017. № 1. С. 17-23. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29076463 (дата обращения: 17.07.2019).
- Шабаев Ю. П., Садохин А. П. Локальные проблемы реализации государственной национальной политики Российской Федерации // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2014. Т. 10, № 1. С. 5-30. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24151307 (дата обращения: 17.07.2019).
- Этнонациональные процессы в Арктике: тенденции, проблемы и перспективы / [под общ. ред. Н. К. Харлампьевой]. Архангельск: САФУ, 2017. 325 с.
- Bowring B. Minority Language Rights in the Russian Federation: The End of a Long Tradition? // The Palgrave Handbook of Minority Languages and Communities / ed. by G. Hogan-Brun and B. O'Rurk. London: Palgrave Macmillan, 2018. P. 73-99.
- Chebankova E. Implications of Putin's regional and demographic policies on the evolution of inter-ethnic relations in Russia // Perspectives on European Politics and Society. 2007. Vol. 8, issue 4. P. 439-459.
- DOI: 10.1080/15705850701640801
- Chevalier J. F. Language Policy in Russia: Nation, Nationalism, and Language // Language Planning in the Post-Communist Era: The Struggles for Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China / ed. by E. Andrews. London: Palgrave Macmillan, 2018. P. 93-118.
- Laruelle M. Is Nationalism a Force for Change in Russia? // Daedalus. 2017. Vol. 146, issue 2. P. 89-100.
- DOI: 10.1162/DAED_a_00437
- Managing Ethnic Diversity in Russia / ed. O. Protsyk and B. Harzl. London: Routledge, 2013. 296 p.
- Morova N. S., Lezhnina L. V., Biryukova N. A., Domracheva S. A., Makarova O. A. Diversity and Tolerance in a Multi-Ethnic Region of Mari El Republic, Russia // Review of European Studies. 2015. Vol. 7, issue 8. P. 171-182.
- DOI: 10.5539/res.v7n8p171
- Parekh Bh. Ethnocentric Political Theory. London: Palgrave Macmillan, 2019. 290 p.
- Pekina A. Ethnocultural Situation in the Republic of Karelia (1980-1990s) // Ethnographica Hungarica. 2005. Vol. 50, issue 1. P. 219-225.
- DOI: 10.1556/AEthn.50.2005.1-3.13
- Prina F. National in Form, Putinist in Content: Minority Institutions ‘Outside Politics' // Europe-Asia Studies. 2018. Vol. 70, issue 8. P. 1236-1263.
- DOI: 10.1080/09668136.2018.1465892
- Smith J. Was There a Soviet Nationality Policy // Europe-Asia Studies. 2019. Vol. 71, issue 6. P. 972-993.
- DOI: 10.1017/CBO9781139047746
- Toulouze E., Vallikivi L. Les langues dans un miroir déformant: Que reflète le recensement russe de 2010 en matière de langues finno-ougriennes? // Etudes finno-ougriennes. 2016. Vol. 47. P. 7-43.
- DOI: 10.4000/efo.4906