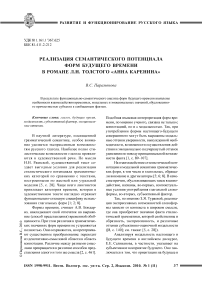Реализация семантического потенциала форм будущего времени в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина»
Автор: Парамонова В.С.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 1 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
В результате функционально-семантического анализа форм будущего времени выявлены особенности взаимодействия временных, модальных и эмоциональных значений, обусловленно- го причастностью субъекта к сообщаемым фактам.
Глагол, будущее время, модальность, субъективный фактор, эмоциональные оттенки
Короткий адрес: https://sciup.org/14969450
IDR: 14969450 | УДК: 811.161.1367.625
Текст научной статьи Реализация семантического потенциала форм будущего времени в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина»
В научной литературе, посвященной грамматической семантике, особое внимание уделяется экспрессивным возможностям русского глагола. Наиболее полно стилистические возможности глагола проявляются в художественной речи. По мысли Н.Н. Раевской, художественный текст создает выгодные условия для реализации стилистического потенциала грамматических категорий по сравнению с текстами, построенными по жесткой или узуальной моделям [5, c. 28]. Чаще всего лингвистов привлекает категория времени, которая в художественном тексте наглядно отражает функционально-стилевую специфику использования глагольных форм [1; 2; 8].
Формы времени, считает А.В. Бондар-ко, накладывают свой отпечаток на выражение (способ представления) временной обобщенности. При этом различия в грамматических значениях форм времени не устраняются полностью. Они сохраняются, но претерпевают существенное преобразование: переходят из денотативно-смысловой области в область коннотации. Различие между разными смыслами превращается в различие способов представления одного и того же смысла [2, c. 461].
Подобная языковая интерпретация форм времени, по мнению ученого, связана не только с коннотацией, но и с модальностью. Так, при употреблении формы настоящего-будущего совершенного могут быть выражены модальные оттенки уверенности, вынужденной необходимости, возможности осуществления действия и эмоционально подчеркнутый оттенок удивления по поводу принципиальной возможности факта [1, c. 89–107].
На взаимодействие стилистической коннотации и модальной семантики грамматических форм, в том числе и глагольных, обращали внимание и другие авторы [5; 6; 8]. В качестве причин, обусловливающих такое взаимодействие, названы, во-первых, контекстуальные условия употребления глагольной словоформы, во-вторых, субъективный фактор.
Так, по мнению З.Я. Тураевой, реализация экспрессивных возможностей словоформы зависит от контекста в широком смысле, где она приобретает значение факта стилистической грамматики, которой свойственны и образность, экспрессивность, и различные оттенки субъективно-оценочной модальности ([8, c. 140]; см. также: [5, c. 28]).
Анализируя модальность настоящего и будущего времени в английском дискурсе, Е.Е. Селиванова, в частности, указывает на субъективное восприятие будущего. Оно заключается в том, что ориентация на будущее в значительной мере определяется самим говорящим, зависит от его выбора и от его намерения представить будущее действие как реальность, которая независимо от каких-либо условий будет иметь место, или как предполагаемое, желаемое событие [6, c. 15].
Анализ работ этих и других авторов, обративших внимание на взаимодействие стилистической коннотации и модальной семантики грамматических форм, свидетельствует о том, что приоритетным для определения таких отношений можно считать фактор субъекта. В данном случае имеется в виду «принцип персонализации» (см.: [4, c. 154–159]), ориентированный на точку зрения говорящего и базирующийся на теории предикативности В.В. Виноградова [3].
Рассматривая грамматическую концепцию В.В. Виноградова, А.В. Бондарко, в частности, отмечает, что суждения этого ученого о предикативности предполагают включение предложения в речь, где происходит актуализация различных предикативных признаков. А.В. Бондарко, говоря об актуализацион-ных признаках высказывания и текста, имеет в виду «семантические элементы, передающие различные аспекты отношения выражаемого содержания к действительности с точки зрения говорящего (пишущего)» [2, c. 90]. Предложенные им термины «актуализацион-ный признак» и «актуализационная категория» характеризуются функционально-семантической ориентацией, поскольку соотносят содержание высказывания и текста как целого с речевой ситуацией и точкой зрения говорящего [там же, с. 90–91].
Функционально-семантический анализ употребления форм будущего времени в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» подтверждает мнение А.В. Бондарко об актуализации содержательных функций временных форм в художественном тексте. Такая актуализация, на наш взгляд, проявляется во взаимодействии модальных и эмоциональных «со-значений», обусловленных причастностью говорящего (пишущего) к сообщаемым фактам. В данном случае для нас принципиальное значение имеет коммуникативно-прагматическая категория субъективности, которая указывает на эксплицитно или имплицитно выраженное присутствие говорящего в каждом ком- муникативном акте, в каждом речевом произведении [9, c. 3]. Выражение субъективности – это прежде всего «преодоление разрыва между субъектом речи и субъектом предложения» [7, c. 327].
Из всех возможных субъектных позиций говорящего – субъект сообщаемого факта, субъект факта сообщения, субъект оценки и т. п. – нас интересует выражение говорящего лица в предметно-личных актантах высказывания, агентивных субъектах, с которыми соотносятся производимые ими действия, испытываемые состояния или приписываемые им признаки.
Фактор субъекта проявляется прежде всего в восприятии будущего, которое мыслится как реальное или ирреальное.
-
1. Значение реально осуществимого будущего может осложняться модальным и эмоциональным отношением субъекта к предстоящим действиям или событиям: уверенностью, целевой установкой, разной степенью вероятности и др.
-
1.1. Восприятие реально осуществимого будущего часто сопровождается уверенностью говорящего, основанной на знании и логическом анализе реальной ситуации. Такое значение присуще, как правило, формам будущего простого. Например, в контексте Он сделает то, что свойственно его низкому характеру. Он останется прав, а меня, погибшую, еще хуже, еще ниже погубит (т. 1, с. 3 18) форма будущего реального времени глагольных словоформ ( сделает, останется, погубит ) указывает на уверенность говорящего в неизбежности действий другого лица, связанных с их будущим проявлением. В данном случае уверенность базируется на том, что говорящий, в качестве которого выступает женщина ( меня, погибшую ), хорошо знает того мужчину, о котором идет речь ( он сделает то, что свойственно его низкому характеру ). Действия этого лица предстают как обычные и типичные, что и обусловливает веру в их непременное осуществление в будущем.
-
В предложении В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит (т. 1, с. 274) уверенность говорящего в осуществлении будущего действия помогает выразить ментальный глагол знать. В контексте придаточного дополнительного предложения, вводимого союзом что, значение глагольного слова знать смещается от фактивного значения «иметь знание» в сторону путативного значения «быть уверенным». Субъект верит в то, что он проявит в будущем выдержку, стойко перенесет уготованное ему в жизни.
В рассмотренных примерах глагольные формы будущего времени совершенного вида, выражая одно и то же временное значение следования по отношению к грамматической точке отсчета, уточняют значение уверенности в плане результативности.
-
1.2. Восприятие реально осуществимого будущего может быть связано с целевой установкой говорящего, которая обусловливает развитие модальных значений. В нашем материале представлены следующие цели говорящего: информировать, высказать свое мнение, побудить к действию, доставить удовольствие себе и партнеру сами процессом общения и др.
Целевая установка говорящего побудить другое лицо к действию представлена в вопросительном предложении Но ты поправишь это, Долли? Да? (т. 1, с. 113). Словоформа будущего времени глагола поправить помогает говорящему сформулировать вопрос, касающийся будущих действий другого лица ( Долли ). В этом вопросе заключено уверенное экспрессивно окрашенное утверждение, предполагающее возможность такого действия ( поправишь = «сможешь сделать») и побуждающее к положительному ответу, о чем свидетельствует частица да , употребляющаяся в значении «не правда ли? не так ли?».
Гедонистическая целевая установка реализуется в предложении Мы с вами успеем по душе поговорить за чаем, we’ll have a cosy chat, не правда ли? (т. 1, с. 322). Глагольная словоформа успеем в сочетании с фразеологическим сочетанием по душе поговорить помогает выразить говорящему надежду на взаимное, дружеское общение. В отличие от предыдущего предложения здесь степень категоричности утверждения снижена, поскольку актуализируется значение совместного будущего действия (мы с вами успеем). Вопросительная частица не правда ли указывает на то, что говорящий хочет узнать, согласен ли с ним собеседник.
-
1.3. На вероятность осуществления реального действия в будущем могут указывать вводно-модальные слова и сочетания ( разумеется , без сомнения, возможно, может быть) .
-
2. Фактор субъекта проявляется в отношении к будущему, которое воспринимается как ирреальное. Об этом свидетельствуют формы будущего времени, которые употребляются в переносном значении в контексте разных временных планов. В данном случае активизируется образное представление осуществления действия во времени и уточняется его модальная характеристика.
-
2.1. Употребление форм будущего простого в переносном значении, как показывает наш материал, наблюдается тогда, когда субъект ограничивает временные рамки дей-
-
- РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ствия планом настоящего или прошедшего времени.
-
2.2. Форма будущего сложного встречается в нашем материале в значении настоящего постоянного и настоящего абстрактного.
Данные единицы выступают как показатели степени убежденности субъекта высказывания и тем самым выполняют свою основную функцию – демонстрируют объем знаний говорящего на момент речи, позволяющих ему делать определенные выводы/пред-положения относительно вероятности наступления будущей ситуации. Нередко выбор вводного слова зависит от качеств субъекта, от его способности контролировать ситуацию. Следовательно, будущее в таких контекстах предстает прогнозируемым, а прогноз – обоснованной информацией о настоящем положении дел.
Так, в предложении Разумеется, я не буду избегать Катерины Александровны, но, где могу, постараюсь избавить ее от неприятности и моего присутствия (т. 1, с. 295) вводно-модальное слово разумеется подчеркивает решительное намерение субъекта-персонажа не совершать ряд действий по отношению к другому лицу ( не буду избегать, постараюсь избавить) .
В контексте Вы собираетесь вступить в брак, и Бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? (т. 2, с. 11) вводно-модальное сочетание может быть подчеркивает вероятность действия, связанную с сомнением субъекта-персонажа. Говорящий сомневается в возможности другого лица иметь детей.
Форма будущего простого в значении настоящего абстрактного встречается в тех случаях, когда говорящему важно подчеркнуть обычность или типичность действия. Создается иллюзия конкретного факта безотносительно к моменту речи. Этому способствует также наглядно-примерный тип употребления совершенного вида. Выделяется один из повторяющихся актов и представляется как ограниченный пределом целостный факт, являющийся своего рода примером, который дает наглядное представление о других подобных актах.
Так, в предложении Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь (т. 1, с. 8) условием употребления формы будущего в плане настоящего абстрактного является наличие двух связанных друг с другом действий: не скажешь словами и мыслями не выразишь. Говорящий акцентирует внимание на повторяющихся, типичных действиях. Значение настоящего абстрактного характеризуется дополнительным модальным оттенком невозможности осуществления действия. Усилительные частицы да и даже актуализируют не только грамматическое значение глагольных словоформ в модальном плане, но и совместно с повторяющейся отрицательной частицей не служат средством выражения эмоционального состояния субъекта.
Форма будущего простого в значении прошедшего времени представлена в ситуации, когда говорящий акцентирует внимание на описании факта прошлого, тем самым ограничивая временные рамки действия планом прошедшего времени. Например: Со мной случилось что-то волшебное, как сон, когда сделается страшно, жутко, и вдруг проснешься и чувствуешь, что всех этих страхов нет. Я проснулась (т. 2, с. 200). В этом предложении описывается эмоциональное состояние говорящего, которое он испытал в прошлом. Соотношение разных временных форм (случилось, проснулась, чувствуешь, сделается, проснешься) помогает передать не только динамику действия, но и состояние напряжения, страха. Употребление словоформ будущего в контексте прошедшего времени реализуется для обозначения внезапного наступления действия. Наречие вдруг подчеркивает внезапность наступления такого действия.
Форма будущего сложного в плане настоящего постоянного времени представлена в ситуации, когда говорящему нужно подчеркнуть наличие постоянного действия, не связанного с временными ограничениями. Например: ...если человек знает, что он должен сидеть так с поджатыми ногами, то сделаются судороги, ноги будут дергаться и тискаться в то место, куда бы он хотел вытянуть их (т. 2, с. 111). В этом предложении констатируется наличие определенного знания, результаты которого могут иметь негативные последствия в будущем. Внимание акцентируется на перечислении обычных действий, которые, как правило, происходят, когда человеку известно, что с ним может происходить, если он долго будет сидеть с поджатыми ногами. Форма будущего сложного несовершенного вида указывает на повторяющиеся действия ( будут дергаться и тискаться ноги ), тогда форма будущего простого совершенного вида подчеркивает результат негативных последствий ( сделаются судороги ). Условно-придаточная конструкция если..., то... помогает выразить модальное значение возможности осуществления будущего действия в плане настоящего постоянного.
В качестве особого типа переноса выделяется употребление формы будущего сложного в контексте абстрактного настоящего. Например: Я по всему вижу, что это часто будет повторяться, что он половину времени будет вне дома (т. 2, с. 224). В предложении словоформа будущего сложного будет повторяться выражает повторяющееся, обычное, типичное действие, представленное в широком плане настоящего времени, не связанного с моментом речи. Такое переносное значение поддерживается семантикой несовершенного вида этого глагола, который выступает в неограниченно-кратном употреблении. Выражению повторяемости способствует также лексическое значение рассматриваемого глагола и контекстуальный конкретизатор, выраженный наречием часто. Говорящий высказывает свое мнение относительно предполага- емых действий другого человека. Об этом свидетельствует ментальный глагол видеть, употребленный в значении «полагать, считать, предполагать». Данный глагол указывает на про-спекцию, так как предположение представляет собой начальную фазу мыслительного акта, когда субъект имеет предварительное суждение об объекте мысли, проявляемое в виде мнения или догадки и основанное на вероятности или возможности чего-либо.
В целом функционально-семантический анализ употребления форм будущего времени свидетельствует о том, что реализация семантического потенциала данных форм в художественном тексте определяется взаимодействием значений модальности и эмоциональности, обусловленных причастностью говорящего (пишущего) к сообщаемым фактам. Точка зрения говорящего как исходный пункт для определения отношения содержания предложения к действительности – это один из тех элементов теории предикативности, которые становятся особенно актуальными в контексте антропоцентрических тенденций современной лингвистики.
Список литературы Реализация семантического потенциала форм будущего времени в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина»
- Бондарко, А. В. Вид и время русского глагола (значение и употребление)/А. В. Бондарко. -М.: Просвещение, 1971. -239 с.
- Бондарко, А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка/А. В. Бондарко. -М.: Яз. славян. культуры, 2002. -736 с.
- Виноградов, В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке/В. В. Виноградов//Виноградов, В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике/В. В. Виноградов. -М.: Наука, 1975. -С. 53-88.
- Ильенко, С. Г. Персонализация как важнейшая сторона категории предикативности/С. Г. Ильенко//Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. -Л.: Наука, 1975. -С. 154-160.
- Раевская, Н. Н. Очерки по стилистической грамматике современного английского языка/Н. Н. Раевская. -Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1973. -142 с.
- Селиванова, Е. Е. Модальность настоящего и будущего времени в английском дискурсе/Е. Е. Селиванова//Вестник Московского государственного лингвистического университета. Сер. «Лингвистика». -2008. -Вып. 545: Когнитивно-функциональные аспекты грамматических исследований англо-язычного дискурса. -С. 13-21.
- Степанов, Ю. С. В поисках прагматики: (Проблема субъекта)/Ю. С. Степанов//Изв. АН СССР. Сер. «Лит. и яз.». -1981. -Т. 40, № 4. -С. 325-332.
- Тураева, З. Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное (на материале английского языка)/З. Я. Тураева. -М.: Высш. шк., 1979. -219 с.
- Химик, В. В. Категория субъективности и ее выражение в русском языке/В. В. Химик. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. -184 с.
- Источники 1. Толстой, Л. Н. Анна Каренина/Л. Н. Толстой//Толстой, Л. Н. Собр. соч. Т. 1-2/Л. Н. Толстой. -М.: Мир книги: Лит., 2007. -Т. 1. -480 с.; Т. 2. -448 с.