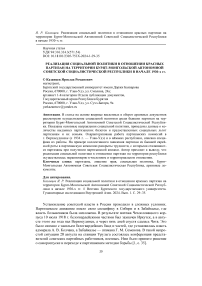Реализация социальной политики в отношении красных партизан на территории Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики в начале 1930-х гг
Автор: Казанцев Я.Р.
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе впервые введенных в оборот архивных документов рассмотрено осуществление социальной политики среди бывших партизан на территории Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики. Показаны основные направления социальной политики, приведены данные о количестве выданных партизанских билетов и предоставленных социальных льгот партизанам и их семьям. Охарактеризована работа партизанских комиссий в г. Верхнеудинске (с 1934 г. - Улан-Удэ) и в аймаках республики, описана специфика их работы. На примере коллективного заявления партизан из бывшей еврейской роты в партизанскую комиссию раскрыты трудности, с которыми сталкиваются партизаны при получении партизанской книжки. Автор приходит к выводу, что реализация социальной политики в отношении партизан на территории республики осуществлялась неравномерно в численном и территориальном отношении.
Партизаны, лишение прав, социальная политика, бурят-монгольская автономная советская социалистическая республика, архивные документы
Короткий адрес: https://sciup.org/148328392
IDR: 148328392 | УДК: 94:316.334.3(571.54) | DOI: 10.18101/2305-753X-2024-1-29-35
Текст научной статьи Реализация социальной политики в отношении красных партизан на территории Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики в начале 1930-х гг
Казанцев Я. Р. Реализация социальной политики в отношении красных партизан на территории Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики в начале 1930-х гг. // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2024. Вып. 1. С. 29–35.
Установление советской власти в России проходило в сложных условиях. Партизанское движение имело свою специфику в Сибири и в Забайкалье, где власть большевиков была низложена. В результате мятежа Чехословацкого корпуса 10 июля 1918 г. белогвардейскими частями был захвачен Иркутск, а в августе этого же года пал Верхнеудинск, а через пять дней спустя сдалась Чита. Это было связано с засильем белогвардейских банд и частей, где установилась власть адмирала А. В. Колчака, а Забайкалье — атамана Г. М. Семенова. В такой непростой ситуации 28 августа на станции Урульга состоялась конференция представителей советских партийных работников, военных. Ими было принято решение о самороспуске и переходе к партизанским методам борьбы [1, с. 35].
Многие сочувствующие советской власти граждане вступали в партизанские отряды, чтобы бороться за установление власти советов. После гражданской войны участникам партизанского движения полагались определенные преимущества в повседневной жизни: первоочередные права на медицинскую помощь (например, санаторно-курортное лечение), материальная помощь (стипендии, пенсии, пособия) и т. д. В статье предпринята попытка осветить реализацию социальной политики в отношении бывших красных партизан в Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республике (БМАССР). В качестве источниковой базы при написании работы был использован фонд Государственного архива Республики Бурятия Ф. Р-718 — Центральная партизанская комиссия при БурЦИК.
До 1930 г. поддержка партизанам и красногвардейцам оказывалась комитетами помощи больным, раненым и инвалидам гражданской войны. Для социальной поддержки и более четкого контроля за партизанами как социальной группой и для чистки их рядов от нежелательных и антисоветских элементов были созданы партизанские комиссии. Социальная политика государства исполнялась через партизанские комиссии, которые находились в сомонах, деревнях, селах, районных центрах, а также в городах. Для того чтобы иметь право на льготы, бывшему партизану нужно было предоставить документы, подтверждающие участие в партизанском движении, также в качестве документов можно было использовать свидетельские показания командиров партизанских отрядов и других бывших красных партизан. Однако зачастую получить и сохранить партизанский билет было сложно по разным причинам. Во-первых, документ может потеряться в соответствующем учреждении, к тому же документы могут не учитываться самой партизанской комиссией. Во-вторых, тень сомнения на соискателя может бросить любая сокрытая мелочь или несостыковка с автобиографией, опрос партизана. В-третьих, партизанские комиссии могли использоваться как инструмент для сведения личных счетов с бывшими товарищами или как инструмент личного обогащения [2, с. 52]. Отказ в выдаче билета мог быть обжалован в районной, краевой или центральной партизанских комиссиях. Согласно директиве Центральной партизанской комиссии при БурЦИК партизанами в Бурят-Монголии считаются: «…лица, боровшиеся с винтовкой в руках в 1919–1920 гг., в период колчаковщины и семеновщины, но не советской власти с бандитизмом 1921– 1922 г…»1.
Нередко рассмотрение заявлений партизан на несправедливое решение партизанской комиссии затягивалось бюрократической волокитой. Так, из письма председателям аймисполкомов от Центральной партизанской комиссии: «…Кроме того, наблюдается безобразное отношение к разбору и выдаче партизанских удостоверений. Разбор заявлений задерживается по 2–3 месяца, жалобы партизан на неправильные отказы Комиссий и выдаче удостоверений президиумом АИК-РИК-а не рассматриваются, и товарищи вынуждены обращаться за пересмотром в Центральную партизанскую комиссию, тогда как согласно постановлению СНК РСФСР от 6 сентября 30 г., решения комиссий при райисполкомах могут быть обжалованы в месячный срок со дня их появления в президиум Райисполкома…»1.
Ярким примером может послужить коллективное заявление граждан Башкира С. И., Мисилевича Д. А. и Н. С. Кузнецкого, служивших в еврейской роте атамана Семенова. В своем заявлении они не согласны с несправедливым решением партизанской комиссии изъять у них партизанские билеты. Свою позицию они изложили в следующем: «…теперь по существу решения партизанской комиссии, мы считаем это решение в той части, где говорится о вынужденном переходе, — принципиально неверным, ибо отсутствует классовый подход к оценке факта вооруженного переворота и это решение льет воду на мельницу антисемитов, утверждающих, что еврейская рота была оплотом Семенова (Гор. парт. комиссия) или что никакого переворота рота не совершала и ее разоружили (Геркович бывший секретарь Баргузинского АК ВКПб)»2.
Классовый состав еврейской роты был разнородным. В ней состояли и богатые, и бедные, и образованные, и безграмотные. По мнению авторов, причислять всех евреев, служивших в этой роте, к ярым сторонникам атамана Семенова, неправильно, это означает что у всех этих людей была общность интересов в защите семеновской реакции. Далее они предлагают пересмотреть решение Баргузин-ской партизанской комиссии и выдвигают следующие тезисы: «…1. Огульное зачисление бывшей еврейской роты в оплот Семенова и признание факта переворота как вынужденного не соответствует действительности и рассматривается нами как проявление антисемитизма. 2. Отсутствие единой линии проведения партизанских комиссий по отношению к бывшим солдатам еврейской роты приводит к тому, что эти люди разбросаны по всему Советскому Союзу, в одном месте получают право партизан, в другом месте их лишают, и создается таким образом своеобразная «черта оседлости»…»3.
Права на установленные льготы были закреплены юридически. Согласно постановлению ЦИК и СНК бывшие красные партизаны имели право на следующие льготы: «…6. Бывшие красногвардейцы и красные партизаны, зарегистрированные на бирже труда, посылаются на работу наравне с членами профессиональных союзов. 7. Бывшие красногвардейцы и партизаны имеют преимущество перед всеми другими гражданами при приеме на курсы и учебные пункты для производственно-технической подготовки неквалифицированных рабочих и для повышения квалификации. 8. Всесоюзному совету республиканских центров промысловых кооперации предлагается принять меры к организации промысловых артелей из безработных — бывших красногвардейцев и красных партизан. 9. Проживающие постоянно в городах бывшие красногвардейцы и красные партизаны, если они нуждаются в жилой площади, имеют право получить жилую площадь по месту своего постоянного жительства из жилищного фонда местных советов наравне с рабочими. 10. Бывшие красногвардейцы и красные партизаны и их дети принимаются во все учебные заведения наравне с рабочими и детьми рабочих. Они освобождаются от платы за учение и пользуются преимуществен- ным перед другими учащимися правом на государственную стипендию. 11. Дети бывших красногвардейцев и красных партизан помещаются на бесплатные места в детские дома, колонии и тому подобные учреждения на одинаковых основаниях с детьми рабочих. Дети умерших красногвардейцев и красных партизан помещаются в перечисленные учреждения в первую очередь. 12. Бывшие красногвардейцы и красные партизаны и их семьи, а также семьи умерших красногвардейцев и красных партизан пользуются всеми видами медицинской помощи на одинаковых основаниях с застрахованными рабочими и членами их семей…»1.
Всего за период с 21 мая 1930 г. по 4 марта 1931 г. по г. Верхнеудинску было рассмотрено 730 заявлений от партизан, выдано удостоверений 494, отказано 136 заявителям, к расследованию отложено 74 заявления, отобрано удостоверение у 6 человек. Касательно курортных мест для оздоровления партизан было выдано 4 путевки, единовременную материальную помощь получили 6 семей партизан, а пенсии были назначены 27 партизанам2.
В марте 1931 г. для оживления работы городской партизанской комиссии в ее состав были избраны бывшие красные партизаны. Так, в период с марта по сентябрь 1931 г. комиссией было выполнено следующее: рассмотрено 210 заявлений, выдано 95 удостоверений, отказано в выдаче 95 заявителям, к расследованию оставлено 20 заявлений, курортных мест предоставлено 7 штук, единовременная материальная помощь оказана 87 семьям партизан, а пенсии были назначены 73 партизанам.
В области снабжения партизан было выделено 3 000 р. на приобретение промышленных товаров. Из всего промышленного снабжения г. Улан-Удэ 12% перечислялось в специальный фонд партизан. В области коммунальных услуг всем партизанам, имеющим партизанское удостоверение, предоставлялись льготы в размере 50% на оплату коммунальных услуг. Однако жилищный вопрос стоял довольно остро: из 250 заявлений удовлетворено было лишь 47 заявлений4.
Первой ступенью школьного образования дети партизан были охвачены на 100%. Кроме того, Народный комиссариат просвещения БМАССР распорядился на 1931 учебный год всем школам выявить имущественное положение учащихся и в первую очередь обеспечить их всем необходимым. Отмечалось, что в предыдущие годы снабжение детей партизан оставляло желать лучшего, это вызывало перебои в обучении детей5.
В области здравоохранения на курортное лечение за истекший 1930 год было выдано 50 курортных мест, а по настоянию городской партизанской комиссии были изысканы резервы в количестве 11 дополнительных курортных мест6.
Из недостатков работы городской комиссии стоит выделить отсутствие культурно-воспитательной работы среди рядов бывших партизан: «…Культурно- воспитательная работа с партизанами совершенно не ведется и большинство в свободное время занимается пьянством»1.
Сами члены городской партизанской комиссии прибегали к использованию своих служебных полномочий с целью получения материального достатка. Это выражалось в торговле разнообразным ассортиментом товаров, главным образом, использовали в качестве поставщиков «частновладельческие элементы». Практиковалась выдача займов отдельным лицам: «…неоднократное получение пособий имело место одними лицами, как-то Пашинцевой до 800 р., Грозной — 700 р. и т. д.»2, а также продажа курортных путевок третьим лицам. В качестве еще одного метода заработка городская партизанская комиссия премировала себя за будущую «добросовестную работу»: «… имеет место выдачи Тронову за активную работу в партизанской комиссии 30/УI-34 года, протоколы № 18 безвозвратно 200 р. и, как премия велосипед, стоимостью в 255 р. »3.
Ситуация в аймаках более депрессивная. Из доклада председателя Агинской партизанской комиссии Раевского можно получить характеристику осуществления помощи партизанам в аймаке: «Несмотря на ряд весьма хороших постановлений Президиума айм. исполкома, — всех положенных льгот в аймаке партизанам не предоставляется. Контроль исполнения решений правительства и местной советской власти слаб. Контроль установлен и то плохой, только со стороны партизанской комиссии. Прокурорский надзор почти отсутствует. Партизанские колхозы никакими льготами не пользуются. Значительный процент партизан до сих пор не коллективизирован. Постоянные перебои в снабжении. Изменение норм выдачи хотя бы хлеба рукой местного сельпо. Массовая политическая работа и культурная среди партизан и главным образом в основных партизанских районах безобразно слаба. Нет дифференцированного руководства партизанскими районами и колхозами со стороны районных органов. За последнее время среди партизан замечается усиленное пьянство, на этой почве разложение, рост преступности…»4.
Подобная бюрократизация и медлительность была характерна почти для всех партизанских комиссий в аймаках/районах. Это связано с тем, что как такового контроля за деятельностью партизанских комиссий в БМАССР не было: «…Областная комиссия работает в исключительно трудных условиях. Нет ни одного освобожденного работника. Нет специальных комнат. Члены комиссии в большинстве перегружены работой и находятся в частых разъездах и командировках. Поэтому областная комиссия не может ни руководить, ни контролировать работу районных и городских комиссий…»5.
В январе 1935 г. постановлением «О льготах бывшим красногвардейцем, красным партизанам и их семьям» Президиума ЦИК БМАССР был расширен ряд льгот для партизан их семей. Согласно этому постановлению бывшие красные партизаны получали внеочередное право на получение жилища, им предоставлялись бесплатный проезд и бесплатное пользование банями и общественным транспортом, бесплатный проход во все городские сады, парки и т. д.1 Эти льготы устанавливали преимущественное право бывших красных партизан, прошедших многочисленные чистки, на приобретение товаров и получение услуг в социальной сфере. Согласно постановлению президиума ЦИК БМАССР от 3 декабря 1935 г., партизанские комиссии, выполнив возложенные на них функции отсева и очистки рядов партизан, были распущены на территории республики2.
Таким образом, социальная политика в отношении бывших красных партизан осуществлялась неравномерно в плане охвата населения и охвата территории. Также имело место явная диспропорция между городом и деревней в предоставлении льгот. Если большинство аймаков не получало обещанных льгот из-за слабого контроля со стороны партии, то в городе ситуация совсем иная — партизанские комиссии исполняли свои прямые функции, но использовались для собственного обогащения.
Из-за излишне бюрократического и неорганизованного процесса рассмотрения заявлений и работы партизанских комиссий в целом не все имеющие права на льготы партизаны стали получать от государства поддержку и материальную помощь. Не всегда комиссии придерживались классового подхода при рассмотрении заявлений. Проводившиеся чистки в среде партизан лишали прав на льготы тех, кто уже имел подтвержденный статус красного партизан. Большая загруженность Центральной партизанской комиссии делала невозможным осуществление контроля над подконтрольными ей партизанскими комиссиями, в результате коррумпированность партизанских комиссий на местах резко возросла.
Отказ в выдаче партизанского билета порождал в партизанах чувство безысходности, стремление восстановить справедливость, также негативное влияние на партизан оказывало отсутствие культурной и просветительской работы, что способствовало увеличению пьянства среди партизан. Это могло приводить к преступлениям и к моральному разложению бывших борцов за советскую власть.
Список литературы Реализация социальной политики в отношении красных партизан на территории Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики в начале 1930-х гг
- Бажеев Д. Г. Коммунистическая партия - организатор и руководитель партизанской борьбы в Бурятии. Улан-Удэ, 1960. 330 с. Текст: непосредственный.
- Гаглоева Б. Б. Материальное положение красных партизан в 1930-х гг.: специфика и региональные особенности льготной программы (на материалах юга Осетии) // Общество: философия, история, культура. 2018. № 9(53). С. 51-54. Текст: непосредственный. EDN: XZREWL