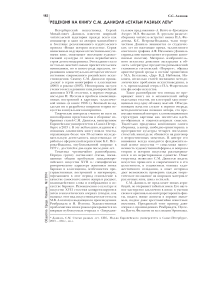Рецензия на книгу С.М. Даниэля «Статьи разных лет»
Автор: Акимов Сергей Сергеевич
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Новости
Статья в выпуске: 3 (32), 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14031787
IDR: 14031787
Текст статьи Рецензия на книгу С.М. Даниэля «Статьи разных лет»
Творческие интересы ученого во всем их многообразии представлены в сборнике избранных статей С.М. Даниэля, выпущенном Европейским университетом в Санкт-Петербурге в 2013 г. В эту небольшую, изданную с изящным лаконизмом книгу вошли тексты, отражающие более чем 30-летнюю исследовательскую деятельность искусствоведа: от работы о сферической перспективе К.С. Петрова-Водкина, опубликованной впервые в 1977 г., до статей и докладов последних лет.
Тематика чрезвычайно разнообразна. Первую группу составляют статьи, посвященные общим проблемам западноевропейского искусства XVII в.: специфически риторическому характеру живописи эпохи барокко и классицизма, особенностям пространственных построений в натюрморте, пережившем в этот период становление в качестве самостоятельного жанра и расцвет, взаимодействию слова и изображения в искусстве барокко. Размышления о культуре и искусстве XVII столетия конкретизируются затем в аналитических очерках (этюдах, как называл этот вид искусствоведческого текста М.В. Алпатов) о выдающихся произведениях Рембрандта и Н. Пуссена. Художественная проблематика эпохи рококо раскрывается во впервые публикуемых очерках о «Затрудни- тельном предложении» А. Ватто и «Грозящем Амуре» М.Э. Фальконе. В «русском разделе» сборника читатель встретит имена П.А. Федотова, К.С. Петрова-Водкина, чьим творчеством Даниэль занимается со студенческих лет по настоящее время, талантливого советского графика А.Ф. Пахомова (Даниэль справедливо высоко ценит его ранние живописные полотна). Материал изобразительного искусства дополнен экскурсами в область литературы: предметом размышлений становятся гоголевский «Портрет», образы архитектурной среды в составе хронотопов у М.А. Булгакова, «Дар» В.Д. Набокова. Наконец, несколько статей посвящено методологическим проблемам искусствоведения, в т. ч. превосходный очерк о П.А. Флоренском как философе искусства.
Такое разнообразие тем отнюдь не превращает книгу ни в механический набор отдельных текстов, ни в пестрый хаос помещенных под одну обложку мыслей. Объединяющим началом служит в первую очередь методологическая позиция автора, его преимущественный интерес к композиционным структурам картины как носителям идейно-образных и социокультурных смыслов. Тщательно продумана композиция самого сборника, а автор, свободно ориентируясь в пространстве культуры четырех последних столетий, никогда не сбивается на разговор о второстепенных моментах. В центре его внимания всегда находится фундаментальный аспект искусства — смысловая наполненность художественной формы, и вопросы теории и истории искусства рассматриваются в их нерасторжимом единстве. Опыт теоретика позволяет С.М. Даниэлю видеть искусство прошлого и современности в его целостности, в сущностных основах художественного созидания, а опыт историка дает возможность проверить каждое теоретическое положение на широком материале различных эпох, школ и стилей.
С.М. Даниэль не предлагает новых атрибуций, не открывает забытых имен. Его научное мастерство заключено в ином: в умении свежо и оригинально интерпретировать факты, видеть новые аспекты в хорошо знакомых, подчас даже хрестоматийно известных явлениях. Прекрасный тому пример дают очерки о произведениях Рембрандта, Пуссена, Ватто, Фальконе из коллекции Эрмитажа.
* Даниэль С.М. Статьи разных лет. СПб., Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. – 256 с., илл.
Так, анализируя композиционное построение «Возвращения блудного сына», исследователь обнаруживает в шедевре Рембрандта, казалось бы, изученном с абсолютной полнотой, новые смысловые нюансы. «Сын припадает к отцу, как припадают к иконе. Свидетели их встречи суть зрители воссоединения в истине, зрители торжества идеи. <...>... образ отца приобретает сакрализованный характер, и композиция насыщается смыслом предстояния истине» (с. 70). Неподвижная и безмолвная фигура человека у правого края картины не только подчеркивает глубину чувств отца и сына, но выполняет роль свидетеля, присутствие которого наполняет всю сцену ощущением почти священного таинства. Тем самым Рембрандт воплощает идею всепобеждающего прощения, человечности и любви в аспекте не только психологическом и эмоциональном, но и символическом.
Очерки о конкретных произведениях искусства в целом принадлежат к лучшим страницам книги. Для профессионала они – диалог с опытным, широко образованным и оригинально мыслящим коллегой, для студента – образцы искусствоведческого мастерства, для всякого, кто интересуется искусством, – увлекательный экскурс в творческий процесс великих мастеров и стимул к дальнейшему расширению своих знаний.
Посредством анализа отдельного произведения С.М. Даниэль может мастерски создать творческий портрет художника или образ эпохи. Рассматривая эрмитажный «Пейзаж с Полифемом», где тщательно выстроенная геометрическая схема композиции способствует особой гармонии образа, он приходит к выводу, что «сочетание гармонического образа природы с трагизмом той или иной «истории» составляет характернейшую особенность живописной драматургии Пуссена» (с. 96). Действительно, достаточно вспомнить «Царство Флоры» из Дрезденской галереи или луврских «Аркадских пастухов», чтобы убедиться в справедливости данного утверждения. Необходимо подчеркнуть только, что трагизм у Пуссена не выливается в образы смятенные и дисгармоничные, а получает возвышенное этическое и художественное разрешение, в силу чего, к примеру, неумолимое течение времени и смерть, над которыми задумались даже безмятежные жители блаженной Аркадии, воспринимаются как закономерная часть бытия, необходимый элемент в круговороте времен, без горечи и безысходности.
С.М. Даниэль не перегружает свои статьи обилием имен, дат, событий, но на основе безупречного знания фактов рисует целостный и запоминающийся образ того или иного ис- торико-культурного явления. В немалой степени убедительности этих обобщений способствуют мастерски подобранные цитаты из высказываний художников, эстетических трактатов, литературных произведений. В очерке о «Затруднительном предложении» Ватто, к примеру, не пересказывается история Франции первой трети XVIII столетия, не дается перечень отличительных признаков рококо, не описываются детально вкусы и быт тогдашней аристократии, но в немногих фразах дается яркая и вполне точная картина тех изменений, которые последовали во французском обществе и культуре за смертью Людовика XIV.
Текстам Даниэля свойственно особое интеллектуальное обаяние, возникающее из сочетания подлинно научной строгости мысли и утонченного эссеизма литературной формы. С абсолютным тактом включенные в словесную ткань риторические обороты, как, порой, и элемент иронии, придают научному тексту оттенок живого диалога. Не случайно отдельную статью автор посвящает роли термина и метафоры в интерпретации художественного произведения (с. 29–42), рассматривая язык искусствознания как отражение языка искусства.
Завершается сборник остроумно написанной статьей «Беспредметное искусствознание», в которой дается своего рода анамнез современного состояния нашей науки: вслед за сменой в ХХ в. пластического мышления концептуальным, за появлением в изобразительных искусствах беспредметной неизоб-разительности возникает и беспредметное искусствоведение. Думается, слово «беспредметность» надо понимать, к сожалению, даже шире, чем это делает автор: не секрет, как часто сейчас за знание и понимание искусства выдаются сугубо спекулятивные и нарочито экстравагантные измышления. В защиту можно сказать лишь нечто вроде фразы «какое искусство — такое и искусствознание», но это никак не оправдывает модного ныне спекулятивного отношения к прошлому искусства.
При чтении книги С.М. Даниэля нельзя не вспомнить (добрыми словами, конечно же) сборники из серии «Библиотека искусствознания», в каждом из которых работы ведущих советских историков искусства и критиков подбирались так, чтобы дать наиболее полный творческий портрет автора. «Статьи разных лет» принадлежат к этой традиции. Остается, правда, сожалеть, что издание не снабжено биографической справкой и списком трудов автора. В остальном же творческий портрет ученого, чьим работам обеспечено место среди классики нашей науки, получился многогранным, точным и ярким.
Новости