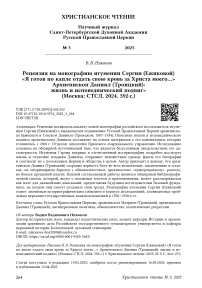Рецензия на монографию игумении Сергии (Ежиковой) «Я готов по капле отдать свою кровь за Христа моего…» Архиепископ Даниил (Троицкий): жизнь и исповеднический подвиг» (Москва: СТСЛ, 2024. 592 с.)
Автор: Никонов В.В.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
Рецензия посвящена анализу новой монографии российского исследователя игумении Сергии (Ежиковой) о выдающемся подвижнике Русской Православной Церкви архиепископе Брянском и Севском Данииле (Троицком; 1887–1934). Описание жизни и исповеднического подвига архиепископа Даниила составлено на основе материалов к его канонизации, которые готовились с 2002 г. Отделом агиологии Брянского епархиального управления. Исследование основано на обширной источниковой базе, что является безусловным свидетельством его достоверности. Игумения Сергия впервые в отечественной историографии подробно исследует жизнь и служение владыки Даниила, открывает неизвестные прежде факты его биографии и соотносит их с положением Церкви и общества в целом. Автор приходит к выводу, что архиепископ Даниил (Троицкий) сохранил верность Богу во всех испытаниях, заключениях и ссылках: о н непримиримо боролся с обновленчеством, противостоял «григорианскому» расколу, не боялся прещений власти. Важной составляющей работы является обширный библиографический список, который, вкупе с основным текстом и приложениями, может рассматриваться как поле для дальнейших изысканий, предоставляя будущим исследователям базовый фундамент, на котром они смогут создавать свои труды. Монография игумении Сергии (Ежиковой) станет значимым историографическим событием в корпусе исследований, посвященных проблемам церковногосударственных взаимоотношений в 1920–1930‑х гг.
Русская Православная Церковь, архиепископ Иларион (Троицкий), архиепископ Даниил (Троицкий), антицерковная политика, обновленчество, политические репрессии
Короткий адрес: https://sciup.org/140312307
IDR: 140312307 | УДК: [271.2-726.2(092)]:655.552 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_264
Текст научной статьи Рецензия на монографию игумении Сергии (Ежиковой) «Я готов по капле отдать свою кровь за Христа моего…» Архиепископ Даниил (Троицкий): жизнь и исповеднический подвиг» (Москва: СТСЛ, 2024. 592 с.)
Антирелигиозная и антицерковная политика советского государства нанесла тяжелый удар по верующим, духовенству и Церкви в целом, его последствия ощущаются сегодня и, несомненно, будут проявляться как во внутрицерковной, так и в общественной жизни еще долгие годы, а возможно, и столетия, ибо такие травмы всегда мучительны и заживают с трудом. В качестве примера можно обратиться к истории раскола XVII в., повлекшего за собой поляризацию общества, выходящую далеко за пределы обрядовых разногласий, и даже революция 1917 г., произошедшая через 250 лет, в определенной степени может считаться его следствием (см. об этом: [Пыжиков, 2016, 90–91]).
В прошедшие со времени изменения церковно-государственных отношений три с половиной десятилетия исследователи в попытках осмысления произошедшего и создания достоверного, основанного на подлинных документах исторического знания постоянно обращались к теме политики советского государства в религиозной сфере. Запрос на такие исследования, сформировавшийся задолго до перестройки, не могли удовлетворить выходившие за пределами СССР работы ряда зарубежных и отдельных отечественных авторов [Регельсон, 1977], прежде всего — в силу их почти полной недоступности. Изменение внутриполитического курса в отношении Церкви и верующих в конце 1980-х гг. и появившаяся возможность знакомства с некоторыми закрытыми прежде архивными фондами обусловили лавинообразный рост публикаций на эту тему. Тогда же определился круг исследовательских проблем, в русле которых и сегодня ведется научный поиск.
Примечательным является тот факт, что исследования в области церковногосударственных отношений в СССР ведутся сегодня одновременно и светскими, и церковными историками, что явно перекликается с подобной ситуацией в дореволюционной России, когда в течение полутора столетий был создан впечатляющий корпус работ, не потерявших своей актуальности по сей день и являющих собой подлинную симфонию церковной и академической науки.
Говоря о посвященных вопросам гонений на Церковь работах, созданных авторами из духовенства, следует в первую очередь отметить многочисленные труды архимандрита Дамаскина (Орловского), игумена Андроника (Трубачева) [Андроник Трубачев, 2008], протт. Владислава Цыпина [Цыпин, 1997], Георгия Митрофанова [Митрофанов, 2021], Максима Максимова, свящ. Александра Мазырина и др.
Церковный историк игумения Сергия (Ежикова)
В этом ряду достойное место занимают работы игум. Сергии (Ежиковой). Ее первое большое исследование, вышедшее отдельным изданием в 2002 г. и переизданное в дополненном виде в 2013 г. в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой лавры тиражом 5000 экз., представляет собой научное жизнеописание свт. Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, составленное на основе обширных архивных опубликованных и не опубликованных материалов, в том числе документов, принадлежавших самому исповеднику Божию, проведшему в тюрьмах, лагерях и ссылках более 30 лет [Сергия Ежикова, 2013]. Книга была по достоинству оценена. В 2014 г. она вошла в число лауреатов IX конкурса Издательского совета Русской Православной Церкви «Просвещение через книгу».
В этой работе игум. Сергия сформировала и реализовала авторский подход к изучению материалов, связанных с жизнью свт. Афанасия, состоящий в органичной интеграции методов исторического исследования с церковными пониманием и интерпретацией жизненного пути угодника Божия.
Этот же подход был использован ею при создании новой работы, посвященной еще одному подвижнику Русской Церкви, которому выпало трудиться и пострадать в тяжелые годы большевистской диктатуры, — епископу Брянскому и Севскому Даниилу (Троицкому).
О структуре книги
Работа построена по хронологическому принципу. Перед нами последовательно проходят все этапы жизни и служения владыки — от его рождения до кончины. Хотя жизнеописание архиеп. Даниила (Троицкого), как это и указывается во введении, составлено на основе материалов к его канонизации и носит выраженный агиографический характер, главным адресатом исследования является заинтересованный и неискушенный читатель. Логика построения работы показывает, как внимательно автор подходит к разъяснению очевидных для специалиста, но зачастую не известных широкому кругу читателей фактов. В качестве иллюстрации можно указать на краткую справку о том, по каким принципам образовывались фамилии лиц духовного сословия и почему в священнической среде родители и дети, а иногда даже родные братья могли носить разные фамилии [Сергия Ежикова, 2024, 15–16]. Подобных примеров множество, и это делает чтение не только интересным, но и полезным.
Исследование основано на обширной источниковой базе, что свидетельствует о его достоверности. Любой факт сопровождается ссылкой на архивные и иные источники, многие из которых вводятся в научный оборот впервые. Среди архивов, с документами из которых знакомит нас автор, такие хранилища, как Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Российский государственный исторический архив (РГИА), Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Государственные архивы областей, где проходил жизненный путь архиеп. Даниила, — Брянской, Московской, Орловской, Смоленской, Тульской, а также архив ПСТГУ. Использованы также документы из Центрального архива ФСБ РФ и областных архивов этого ведомства. При работе с материалами Холмской духовной семинарии использованы документы, отложившиеся в архиве г. Люблина в Польше. Общий корпус исследованных архивных источников дает яркую картину трагического периода отечественной истории, выходящую далеко за рамки жизнеописания отдельного иерарха, и позволяет расширить наши представления о жизни православного духовенства в тяжелые для Церкви годы.
Книга игум. Сергии богато иллюстрирована портретами людей, чья жизнь была связана с архиеп. Даниилом (Троицким), а также фотографиями мест, где он жил или служил. Кроме того, в работе имеется немалое число факсимильных копий автографов владыки и документов из его следственных дел. Следует отметить, что ценность иллюстративного материала книги определяется не «арифметической суммой» ценностей каждого отдельного изображения, а их совокупностью, ибо вместе они создают параллельный тексту визуальный ряд, делающий восприятие всей работы более выразительным.
Несомненным достоинством работы является научная скрупулезность, с которой автор подходит к описанию сел, городов, храмов и обителей, связанных с земной жизнью владыки Даниила. С первых строк работа погружает в атмосферу благочестивой священнической семьи, где прошло детство Дмитрия Троицкого. Автор знакомит не только с его родословием, но и с краткой историей прихода, где служили его предки начиная с XVI в. Фактически, это канва отдельного церковно-исторического исследования об истории приходского храма.
Жизнеописание архиепископа Даниила (Троицкого)
Родословие владыки Даниила автор прослеживает с XVII в., причем, как и в случае с историей прихода, дает в руки будущему исследователю необходимую начальную информацию для более глубокого научного поиска. В работе помещены относительно подробные сведения о жизни деда и отца будущего архиеп. Даниила — священников Петра Ивановича и Алексия Петровича Троицких.
Ряд фактов из их биографий характерны и даже типичны для приходской жизни духовенства XIX в., и игум. Сергия безошибочно выбирает те из них, которые наиболее выразительно ее характеризуют. Например, обстоятельства рукоположения о. Петра Троицкого во иерея являют собой распространенную схему, когда неженатый выпускник семинарии венчается с дочерью скончавшегося священника, наследуя его приход и одновременно принимая на себя обязанности содержания тещи и малолетних братьев и сестер своей жены, если таковые имеются (см. также: [Никонов, 2021, 147–148]). Существовала практика, и весьма распространенная, когда после кончины настоятеля, у которого не было сыновей, способных заменить отца, на приход назначался «временный» священник, пока одна из дочерей не выйдет замуж за выпускника семинарии. Это было действенной мерой поддержки осиротевших семей священнослужителей, которые в противном случае обрекались бы на полуголодное существование. Кроме того, это давало возможность выпускнику семинарии, если, конечно, он не готовился к иночеству, жениться на девушке из духовного сословия (неженатых, как известно, не рукополагали) и наследовать приход ее отца. Именно такая ситуация описана в рассматриваемой работе: «Священник Петр Иванович Троицкий… в 1842 г. по 1 разряду окончил Тульскую духовную семинарию. В связи с тем, что не было вакантных мест, его хиротония во священника состоялась только через четыре года — 21 ноября 1846 г. Петр Иванович был рукоположен в сан священника к Благовещенскому храму села Липицы Каширского уезда Тульской губернии. Супруга о. Петра Мария Григорьевна была дочерью местного священника Григория Александровича Ляпидевского, вдова которого Мария Романовна жила в доме на пропитании зятя, принявшего обязательство по ее обеспечению» [Сергия Ежикова, 2024, 16].
Подчеркивая типичность такого брака для представителей духовного сословия, автор приводит историю женитьбы другого деда владыки Даниила: «Дед архиепископа Даниила по линии матери священник Василий Кириллович Виноградов… окончил Тульскую духовную семинарию по второму разряду. В конце 1863 г. был определен к Михаило-Архангельскому храму с. Мещерское Тульского уезда на место умершего священника Петра Крутицкого со взятием в замужество его дочери Марии. и обязательством содержать осиротевшее семейство (жену, двух дочерей и сына покойного)» [Сергия Ежикова, 2024, 19].
Еще одной характерной чертой сельского приходского духовенства, на которую обращает внимание автор, была активная позиция в деле народного просвещения. Все предки владыки Даниила и по линии отца, и по линии матери открывали новые церковно-приходские школы и школы грамоты, в которых сами же и преподавали. Что касается родителя будущего архиепископа, о. Алексия Троицкого, то он в своей просветительской деятельности пошел еще дальше: «Он являлся инициатором создания двух церковно-приходских школ и исполнял должности учителя в земском училище, законоучителя в одноклассном Министерства народного просвещения училище, заведующего и законоучителя нескольких школ, уездного наблюдателя церковных школ... члена Каширского уездного отделения Тульского епархиального Училищного совета» [Сергия Ежикова, 2024, 20]. Примечательно, что именно духовенство, преимущественно сельское, являло собой своеобразное связующее звено при противостоянии адептов церковно-приходского и земского начального образования (см. об этом: [Никонов, 2019б]).
К сер. XVIII в. духовное сословие становится относительно замкнутым, и в течение всего XIX в. такое положение дел укрепляется. Его представители, как было показано выше, создают семьи между собой, получают узнаваемые и отличающиеся от других фамилии, имеют свою образовательную траекторию, схожие бытовые привычки и примерно одинаковые общественные настроения.
Все перечисленное было характерно и для семейства Троицких. Трое сыновей священника Алексия Петровича один за другим получают начальное образование в Тульском духовном училище, а затем поступают в духовную семинарию. Описывая этот период жизни владыки Даниила и его братьев, игум. Сергия, следуя избранному методу, дает вполне содержательные справки об этих учебных заведениях с указанием адресов их расположения, имен преподавателей, перечня преподаваемых дисциплин и даже знакомит с распорядком дня, определенным уставом Тульской семинарии. Кроме того, в работе сообщается о наиболее известных выпускниках этой духовной школы.
В большинстве своем выпускники семинарий рукополагались и становились приходскими священниками, и лишь немногие продолжали образование в духовных академиях. Будущий архиеп. Даниил, а тогда просто Димитрий Алексеевич Троицкий, в 1909 г. поступает в Санкт-Петербургскую духовную академию. При этом будущий владыка не ограничивается высшим духовным образованием и в 1911 г., одновременно с обучением в Академии, поступает в Императорский Санкт-Петербургский археологический институт.
Говоря о Санкт-Петербургских Императорском археологическом институте и Духовной академии, о Холмской духовной семинарии, где владыке Даниилу впоследствии довелось преподавать, автор предваряет рассказ об учебе и служении в этих учебных заведениях исторической информацией, а также сведениями о наиболее известных преподавателях, учивших здесь, и выпускниках, здесь учившихся. По такому же принципу построено повествование об обителях, где подвизался владыка: сначала историческая справка о монастыре или храме, затем обстоятельства его служения.
Тюремная эпопея владыки Даниила (Троицкого) началась с ареста в ноябре 1921 г. по делу «об утайке и краже монастырских ценностей», по которому он провел в заключении несколько месяцев. Он освободился в апреле 1922 г., в разгар кампании по изъятию церковных ценностей, положившей начало серии процессов над мирянами и духовенством, в той или иной степени сопротивлявшимся изъятию. В июне 1922 г. в Орле состоялся процесс над «церковниками» по обвинению в «активном сопротивлении изъятию церковных ценностей». Решением губернского революционного трибунала епископ Орловский и Ливенский Серафим, арестованный в начале мая этого года, был осужден на 7 лет заключения со строгой изоляцией. Ввиду ареста правящего архиерея в Орле состоялось собрание городского и уездного епархиального духовенства, где обсуждался вопрос организации управления епархией. 17 мая 1922 г. во временное управление Орловской епархией вступил недавно освободившийся из-под стражи еп Даниил (Троицкий). Очевидно, что, принимая управление епархией, он ставил себя в весьма уязвимое в смысле возможности следующего ареста положение [Сергия Ежикова, 2024, 177–178].
Возглавив епархию, владыка Даниил повел непримиримую борьбу с обновленческим расколом. Примечательно, что в обновленческом издании «Сибирская Церковь» именно в этот период появляется публикация, из которой следует, что он якобы перешел в обновленчество. Она стала причиной того, что на протяжении ряда лет владыку считали уклонившимся в раскол. К числу достоинств работы игум. Сергии следует отнести документально обоснованное опровержение этих домыслов.
Очередной арест еп. Даниила состоялся 28 октября 1922 г. В этот день его вызвали в Орловский губернский политотдел, где ему было предъявлено обвинение в контрреволюционной агитации. И, «принимая во внимание силу имеющихся против него улик», сотрудники отдела подписали постановление о содержании его под стражей [Сергия Ежикова, 2024, 188]. Вскоре состоялся суд, и 13 декабря 1922 г. преосвященный был выслан в Хиву на два года.
Вернувшись из ссылки в 1925 г., владыка Даниил приехал в Москву, где вновь оказался в центре сложных церковно-государственных отношений. 22 декабря 1925 г. в Москве, в Донском монастыре состоялось совещание под председательством архиепископа Екатеринбургского Григория (Яцковского), на котором группа архиереев, основываясь на неправильно понятом принципе соборности, в нарушение церковных канонов создала Временный высший церковный совет (ВВЦС) — коллегиальный орган григорианского раскола. Учреждение ВВЦС осуществлялось при активной поддержке ОГПУ и представляло собой фактическую попытку захвата высшей церковной власти (см. об этом: [Мазырин, 2020]). Заместитель патриаршего местоблюстителя митр. Сергий (Страгородский) отказался признать ВВЦС «канонически законным органом управления Церкви» и 29 января 1926 г. наложил на архиеп. Григория и всех архиереев, принявших участие в организации ВВЦС, запрещение в священнослужении и отстранил их от управления епархиями вплоть до раскаяния или церковного суда. 2 апреля 1926 г. еп. Даниил в числе 25 архипастырей подписал письмо заместителю патриаршего местоблюстителя, в котором раскольническая деятельность «григориан-цев» характеризовалась как незаконная, а канонические меры прещения, предпринятые против них со стороны митр. Сергия, поддерживались.
Активная позиция владыки Даниила, направленная на укрепление и единение Церкви, вновь делала его мишенью для органов ОГПУ. Игумения Сергия приводит сведения, согласно которым уже в июне 1926 г. он вновь был арестован, отмечая, однако, что следственное дело 1926 г. до сих пор не обнаружено [Сергия Ежикова, 2024, 206]. Между тем установлено, что с 1926 по 1928 г. еп. Даниил находился в ссылке в Кинешемском уезде Иваново-Вознесенской губернии (ныне Кинешемский район Ивановской области).
В 1930 г., согласно изысканиями игум. Сергии, владыка Даниил вновь был выслан в административном порядке, на этот раз в Крым [Сергия Ежикова, 2024, 213].
В течение последних лет своей жизни владыка Даниил возглавлял последовательно три епархии — Смоленскую, Орловскую и Брянскую. Незадолго до кончины, в январе 1934 г., он был возведен в сан архиепископа и скончался в марте того же года в чине архиепископа Брянского и Севского.
Примечательно, что уже после смерти владыки органы НКВД, непрестанно следившие за ним при жизни, не упустили случая в очередной раз отметить его якобы «антисоветскую» деятельность. В 1937 г. было начато дело в отношении священников, которые некогда сослужили архиеп. Даниилу и общались с ним. Всех их обвиняли в участии в контрреволюционной организации. При этом сообщалось, что «Даниил Троицкий был руководителем и вдохновителем организации его единомышленников, группировавшихся вокруг него для борьбы с Советской властью под флагом защиты Церкви и поддержания веры у населения» [Сергия Ежикова, 2024, 225]. Этот факт, очень точно подмеченный игум. Сергией, выразительно характеризует работу органов НКВД в период Большого террора, когда связь с давно почившим и потому недоступным для репрессий человеком вменялась в вину тем, кто попал в их поле зрения.
Архиепископ Даниил (Троицкий) скончался после тяжелой болезни 17 марта 1934 г. и был погребен на небольшом кладбище в Володарском районе г. Брянска. Кладбище это в 1950-х гг. было ликвидировано, могилы осквернены и разграблены. Перезахоронить останки архипастыря никто в то время не решился. В настоящее время продолжается поиск места его захоронения.
Справочный аппарат и Приложения
Обширный отдел монографии составляют дополнительные материалы, вынесенные автором за пределы основного текста.
Прежде всего, это сравнительная таблица основных событий, произошедших в жизни трех братьев Троицких — Владимира, Димитрия и Алексея [Сергия Ежикова, 2024, 287]. Отдельные факты биографии каждого из них, благодаря таблице рассматриваемые в совокупности, позволяют увидеть тенденции и общие черты, характерные для жизни духовенства на рубеже XIX и ХХ вв. и в первые годы советской власти. Выходцы из семьи потомственных священнослужителей, все они посвятили себя служению Богу. Все получили духовное образование: начальное — в Тульском духовном училище, среднее — в Тульской семинарии (младший брат, Алексей Алексеевич, поступив в семинарию в Туле, получил среднее духовное образование уже в Вифанской семинарии в Сергиевом Посаде). Старшие братья, Владимир и Дмитрий, получили высшее образование, окончив духовные академии в Москве и Санкт-Петербурге в 1911 и 1913 гг. соответственно. Средний брат, отстававший от старшего на год-полтора,
«догоняет» его на этапе пострижения в монашество. Постриг совершается в 1913 г., и тогда же они последовательно рукополагаются во иеродиаконы и иеромонахи, после чего почти одновременно переходят на преподавательскую работу. Таблица позволяет наглядно представить жизненную траекторию «ученого монаха» до революции, когда из наиболее способных составлялись штаты учебных заведений, причем не только духовных. «Именно на них возлагались должности инспекторов и ректоров семинарий и академий; и восхождение по начальственной лестнице превращало ученое монашество в постоянных странников по разным епархиям» [Сухова, 2018, 198].
Таблица выразительно демонстрирует схожие повороты судеб трех братьев после победы большевиков. Если в первые послереволюционные годы все они продолжают свои труды и служение (архим. Иларион в 1917 г. исполняет обязанности ректора МДА; иером. Даниил тогда же — настоятель Болховского Троицкого Оптина монастыря; младший брат Алексий — священник Благовещенского храма с. Липицы), то вскоре все они подвергаются репрессиям.
Примечательно, что рассматриваемая таблица в этой своей части позволяет увидеть тенденции репрессивной политики советской власти в первые годы ее существования. Сразу после революции гонения на Церковь носили стихийный и нередко бессудный характер. Духовенство и верующие с первых месяцев после октября 1917 г. подвергались насилию с несомненного попустительства властей, которое оставалось безнаказанным. Однако массово храмы пока не закрываются, богослужения продолжаются, приходская жизнь не прекращается. Целенаправленные атаки на Церковь начинаются на рубеже 1920-х гг. Именно в этот период происходят первые аресты еп. Илариона — в 1919 г. и в 1921 г., и еп. Данила — в 1921 г. Оба по приговорам революционных трибуналов проводят в заключении по нескольку месяцев, что также является типичным сроком для 1-й пол. 1920-х гг. (см. об этом: [Мраморнов, 2011]). В 1924 г. в заключении, и тоже ненадолго, оказывается и младший брат, свящ. Алексий Троицкий. Обращает на себя внимание сходство судеб троих братьев, хотя все они в это время находятся в разных областях РСФСР.
Конец 1920-х гг. ознаменовался очередным витком антицерковных репрессий, и таблица выразительно иллюстрирует это судьбами троих братьев Троицких. В 1928 г. еп. Даниил находится в ссылке в Кинешемском уезде Иваново-Вознесенской губернии, в 1929 г. архиеп. Иларион, арестованный в очередной раз, приговаривается к ссылке в Казахстан, в январе 1930 г. свящ. Алексий Троицкий приговаривается к пяти годам исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). В очередной раз отметим, что в этот период именно такие сроки и формы репрессий наиболее часто применялись к священнослужителям (см. об этом: [Никонов, 2019а, 508]).
Даже то, когда и каким образом завершился жизненный путь каждого из братьев Троицких, выразительно иллюстрирует судьбу русского духовенства в 1920–1930-е гг. Старшие братья скончались сорока с небольшим лет, подорвав здоровье в бесконечных тюрьмах и ссылках. Младший брат, арестованный в третий раз в августе 1937 г., был расстрелян в Бутове через месяц после ареста. Его тюремная эпопея может считаться типичной для приходского священника, впервые обратившего на себя внимание органов ОГПУ-НКВД в сер. 1920-х гг., вновь арестованного на рубеже 1930-х и расстрелянного в годы Большого террора. Трудно считать безосновательным предположение о том, что архиепп. Илариона и Даниила (Троицких), если бы они дожили до 1937 г., скорее всего, ждала бы та же участь.
Таким образом, таблица, составленная игум. Сергией и приведенная ею в приложениях к своей работе, является по сути «дорожной картой» репрессивной политики советского государства в отношении духовенства, что позволяет рассматривать ее не только в качестве наглядного дополнения к данной книге, но и как самоценный результат научного поиска.
Отдельного внимания заслуживают материалы, вынесенные автором в раздел приложений. Их основу составили дореволюционные публикации в ряде церковных периодических изданий епархий, где проходило служение владыки Даниила
(Троицкого), — Холмской, Тульской и Орловской, а также его проповедь «Той бо [Христос] есть мир наш», сохранившаяся в рукописи и отложившаяся в архиве УФСБ РФ по Орловской области.
Отмечая несомненную научную ценность документов, составивших раздел приложений, подчеркнем, что, на наш взгляд, его можно было бы расширить за счет некоторых материалов, которые опубликованы целиком или большими фрагментами в текстовой части книги, где они выглядят несколько тяжеловесными. Думается, что работа выиграла бы, если бы большие по объему цитаты автор сократил, передав суть сказанного своими словами и ограничившись краткими необходимыми вставками из оригинальных документов. Читатель же в случае необходимости смог бы ознакомиться с полным текстом цитируемого документа, обратившись в раздел приложений. В качестве примера таких громоздких прямых цитат можно указать на представление епископа Орловского Серафима от 20 сентября 1917 г. [Сергия Ежикова, 2024, 105], на акт избрания кандидата на должность настоятеля Болховского Троицкого Оптина монастыря от 31 июля 1917 г. [Сергия Ежикова, 2024, 107], на текст протокола общего собрания Болховского отделения Церковноархеологического общества 21 января 1918 г. [Сергия Ежикова, 2024, 127], на некоторые материалы следственных дел и др.
Важной составляющей работы является обширный библиографический список, который вкупе с основным текстом и приложениями может рассматриваться как поле для дальнейших изысканий, предоставляя будущим исследователям первичную информацию, на основе которой как на базовом фундаменте они смогут создавать свои труды.
* * *
Выход в свет новой книги игум. Сергии представляется значительным событием в церковно-исторической науке. Эта работа, имея своей главной задачей сохранение памяти о выдающемся подвижнике Церкви, должна одновременно дать нам повод для переосмысления нашей собственной жизни.