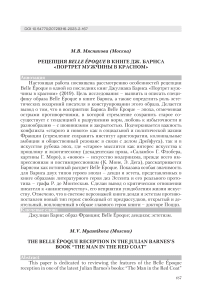Рецепция belle epoque в книге Дж. Барнса "Портрет мужчины в красном"
Автор: Мясникова М.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Настоящая работа посвящена рассмотрению особенностей рецепции Belle Epoque в одной из последних книг Джулиана Барнса «Портрет мужчины в красном» (2019). Цель исследования - выявить и описать специфику образа Belle Epoque в книге Барнса, а также определить роль эстетических воззрений писателя в конструировании этого образа. Делается вывод о том, что в восприятии Барнса Belle Epoque - эпоха, отмеченная острыми противоречиями, в которой стремление сохранить старое сосуществует с тенденцией к разрушению норм, любовь к избыточности и разнообразию - с шовинизмом и закрытостью. Подчеркивается важность конфликта «старого и нового» как в социальной и политической жизни Франции (стремление сохранить институт аристократии, колониальные амбиции и общественный резонанс в связи с делом Дрейфуса), так и в искусстве рубежа эпох, где «старое» мыслится как интерес искусства к прошлому и экзотическому (декадентская проза, «Саламбо» Г. Флобера, картины Г. Моро), а «новое» - искусство модернизма, прежде всего импрессионизм и постимпрессионизм (К. Моне, Э. Дега), рассматривается Барнсом как истинный расцвет Belle Epoque. Показана особая значимость для Барнса двух типов героев эпохи - денди и эстета, представленных в книге образами литературного героя дез Эссента и его реального прототипа - графа Р. де Монтескью. Сделан вывод о критическом отношении писателя к «жизнетворчеству», его неприятии уподобления жизни искусству. Отмечено, что в системе персонажей книги денди и эстетам противопоставлен новый тип героя: свободный от предрассудков, открытый и деятельный, воплощенный в образе главного героя книги - докторе Поцци.
Джулиан барнс, образ франции, дендизм, эстетизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149143518
IDR: 149143518 | DOI: 10.54770/20729316-2023-2-167
Текст научной статьи Рецепция belle epoque в книге Дж. Барнса "Портрет мужчины в красном"
Образ Belle Époque – важный компонент образа Франции в творчестве современного британского писателя Джулиана Барнса. «Франция – моя вторая родина», – утверждал Барнс в интервью Карлу Свенсену [Swanson 1996]. Это страна, язык которой он знает с детства (родители писателя – преподаватели французского), литературу которой он любит наряду с английской, страна в истории и даже ландшафте которой есть что-то, что «очевидно пробуждает мое воображение, или по крайней мере одну из его областей» [Swanson 1996]. «Франкофильство» Барнса неоднократно отмечалось критиками (так, М. Дебюре характеризует Джулиана Барнса как «самого французского из всех английских юмористов» [цит. по: Бондарчук 2002, 272]), а «французский текст» становился предметом внимания исследователей его творчества (см.: [Толкачёв 2019], [Guignery 2011]).
Исследование образа Франции в творчестве Барнса, и в частности образа Belle Époque в его книге «Портрет мужчины в красном» (2019), предпринимается в рамках изучения более обширной проблемы, привлекающей внимание современных ученых-гуманитариев, – проблемы рецепции чужой страны, народа и создания образа Другого (см.: [Михальская 1995], [Нойманн 2004], [Хабибуллина 2010], [Шапинская 2012], [Земсков 2015], [Трыков, Ощепков 2021] и др.). Цель подобных исследований не столько проиллюстрировать динамику российско-европейских отношений и представлений Европы о России (всякие представления о Другом в литературе неизбежно ценностно окрашены и в большей или меньшей степени субъективны), сколько в отношении к «Другому» обнаружить особенности и константы культуры-реципиента. Такой подход к изучению образа «Другого» заявляют в своей книге «Русская незнакомка во французской “республике словесности”: Образ России в литературном сознании Франции» (2021) В.П. Трыков и А.Р. Ощепков: «Какие вопросы ставила Франция перед собой в связи с Россией, как она на них отвечала, что акцентировало и что затушевывало литературное сознание Франции, создавая образ России, что это говорит нам о Франции, какие стороны и константы французской культуры обнаруживает <…> образ России во французской литературе интересовал нас прежде всего как самопрезен-тация Франции, проявление ее культурных кодов. Как любая литературная форма, образ “Другого” конденсирует и обнаруживает проблематику, которая на определенном этапе развития той или иной культуры в силу определенных причин была актуальной для данного социума. Образ России являл собой структуру, демонстрировавшую самоопределение Франции по отношению к одному из ее культурных контрагентов» [Трыков, Ощепков 2021, 11].
Настойчивое обращение к Франции, несомненно, позволяет Барнсу по-новому взглянуть на Англию и «английскость». Вопрос особенностей репрезентации национальной идентичности в творчестве писателя изучен достаточно хорошо (см.: [Bentley 2007], [Горбунова 2010], [Böhme 2012], [Коноплюк 2015]). В настоящей работе исследование образа Belle Époque предпринимается с целью реконструкции некоторых важных положений эстетики Барнса.
В «Портрете мужчины в красном» Дж. Барнс обращается к культурной жизни Франции на рубеже XIX–XX вв. Формально книга посвящена биографии «мужчины в красном» с картины Джона Сингера Сарджента – доктора Самюэля-Жана Поцци, однако в жанровом отношении биографией не является. Отмечу, что жанр биографии – один из предметов авторской рефлексии: биографические романы Барнс считает несколько «приторными» [Browne 2016] (“kind of cheesy”), имея в виду «комфортность» традиционных биографий, их стремление одновременно «все объяснить» и показать «все самое интересное». В своих биографических романах («Попугай Флобера», 1984; «Шум времени», 2016) писатель намерено деконструирует повествование, сопротивляясь тенденции к биографическому «упрощению» и демонстрируя невозможность как существования единственного объяснения того или иного биографического факта, так и утверждения его истинности: «Биография – это коллекция дыр, нанизанных на шнурок» [Барнс 2020, 146].
Обращаясь к биографическому повествованию в книге «Портрет мужчины в красном», Барнс придерживается избранной стратегии и представляет историю жизни доктора Поцци не как хронологически последовательное повествование, события которого существуют в строгой логической связи, но в виде разрозненных эпизодов и фактов, связанных с многочисленными знакомствами героя и вписанных в широкий контекст культурной и социальной жизни Франции времен Прекрасной эпохи (Belle
Époque). Барнса интересует не только личность Поцци, но и то, в каких условиях она могла сформироваться, как соотносятся личность и эпоха.
Примечательно, что, как и портрет главного героя, портрет эпохи дается писателем в виде разрозненных фрагментов, связанных между собой не хронологией, но задействованными героями, а также системой образов-лейтмотивов, выражающих, по мнению Барнса, дух времени.
Одним из таких образов в книге становится образ пули. В ироническом вступлении к книге Барнс размышляет как именно «начать» рассказывать эту историю, и одним из вариантов будет: «<…> можно начать с пули, а также с оружия, из которого была выпущена пуля. <…> Но какое оружие и какая пуля? В ту пору, куда ни кинь, того и другого имелось в избытке» [Барнс 2020, 11]. В подтверждение последнего тезиса историй и эпизодов, связанных с пулями, тоже представлено в избытке: они фигурируют и как объект эстетизации («пуля, убившая Пушкина» – экспонат в домашнем музее графа Робера де Монтескью), и как способ решения споров (особенно отмечается «дуэльная лихорадка» конца XIX в.: «Дуэль и быстрее, и дешевле судебной тяжбы <…>. Между 1895 и 1905 годом в Париже, согласно одной очень скромной оценке <…> состоялось не менее полутора сотен дуэлей» [Барнс 2020, 69]), и как политическое заявление (пули, выпущенные в Дрейфуса). От пули же в итоге погибает и главный герой: в него стреляет недовольный пациент, находящийся на грани нервного срыва. Примечательно, что это не первый случай убийства врача пациентом, упомянутый в книге. Рассказывая о несчастливых предшественниках Поцци, Барнс, с одной стороны, намекает на то, какая судьба ждет главного героя, и, с другой, подчеркивает пугающую обыденность подобного события.
Можно ли считать «прекрасной» ту эпоху, доминантой которой является оружие и всеобщая невротизация? Размышляя о самом термине Belle Époque, Барнс иронично называет его «блескучим ярлыком» [Барнс 2020, 43], который закрепился во французском языке только в 1940-е гг. во время немецкой оккупации («очередного поражения Франции») и, как он полагает, во-первых, был призван «взбодрить» общество воспоминанием о времени «гламура с щепоткой декаданса, последнего расцвета искусств <…> и остроумных афиш Тулуз-Лотрека» [Барнс 2020, 43], и, во-вторых, подыгрывал немецкому восприятию Франции как страны легкомыслия и канкана. Примечательно, что ни разу в книге не упоминается другой хрононим – fin de siècle, которым, как доказывает французский историк Кристоф Шарль, активно пользовали интеллектуалы рубежа XIX–XX вв. [Шарль 2018]. Провести четкую границу между определениями достаточно сложно, поскольку рамки периода весьма подвижны: так, К. Шарль утверждает, что «заканчиваться» век начал уже 1880-е гг., а закончился только к Первой мировой войне. Хронологические рамки Прекрасной эпохи, по Барнсу, шире примерно на десятилетие: «период между катастрофическим поражением Франции <…> и ее же катастрофической победой» [Барнс 2020, 43], а именно – с 1870 по 1918 гг. Игнорируя хрононим fin de siècle (намеренно или нет), Барнс, тем не менее, фиксирует состояние французского общества, его настроения этого периода: неста- бильность, кризисность, нервозность. Однако признавая их в качестве доминант эпохи, автор неоднократно иронизирует не только над тенденцией к эстетизации Belle Époque, но и над излишней драматизацией истории: довольно легко поддаться параноидальным страхам, живя в «смутные времена», однако странно излишне сгущать краски, находясь в достаточном историческом отдалении.
Наряду с пулями, в «Портрете мужчины в красном» неоднократно упоминается роман Ж.К. Гюисманса «Наоборот». Изначально он возникает в тексте в связи с фигурой одного из друзей доктора Поцци – графа Робера де Монтескью, послужившего прототипом для главного героя романа – дез Эссента. Вместе с упоминаниями о романе Гюисманса в текст вводятся характерные типажи эпохи fin de siècle – денди и эстет. Причем, литературный дез Эссент – только эстет, а граф де Монтескью – и денди, и эстет. Для одного из первых теоретиков французского дендизма Шарля Бодлера эти два понятия синонимичны, денди не может быть не эстетом, его высшее назначение «культивировать в себе утонченность» и «сражаться с пошлостью и искоренять ее» [Бодлер 1986, 303–304]. Барнс разделяет понятия «денди» и «эстет»: в его книге несколько раз встречаются обороты вроде «как для денди, так и для эстета…» [Барнс 2020, 113, 130]). Хотя писатель прямо нигде не объясняет, в чем видит различие между денди и эстетом, но намекает, что денди и эстет по-разному относятся к действительности и позиционируют себя в обществе. Первое упоминание романа «Наоборот» связывается в тексте с поездкой графа в Лондон: Барнс отмечает, что годом ранее литературный герой тоже пытался предпринять подобное путешествие, однако так и не садится в поезд, поскольку не уверен: «стоит ли идти на риск столкновения с грубой реальностью, если воображение способно дать не меньше, а то и больше увлекательных впечатлений?» [Барнс 2020, 25]. Дез Эссент – затворник и мизантроп, в то время как де Монтескью «неизбежно оказывался в центре паутины бесценных знакомств» [Вайнштейн 2005, 422]. В связи с уже другой дендистской фигурой – Оскаром Уайльдом – писатель замечает: «Каждому денди нужны чужие глаза, точно так же как искусному рассказчику нужны чужие уши» [Барнс 2020, 128].
И денди, и эстет интересны Барнсу, прежде всего, своим «жизнет-ворчеством», стремлением «создать себя» (в одном из фрагментов денди сравнивается с парфюмерным ароматом: «их объединяет выверенный набор ингредиентов, искусно созданное правдоподобие и шарм» [Барнс 2020, 130]), но не так, как это делают американские “self-made men” – не для достижения высокого положения в обществе, а для эстетизации жизни, превращения ее в искусство. Для Барнса подобное стремление непродуктивно, он принципиально отказывает эстетам и денди в причастности к искусству. Они прежде всего «знатоки и законодатели тонкого вкуса» [Барнс 2020, 82], а вкус, в свою очередь, у Барнса резко противопоставлен искусству: «Дега сказал: “Вкус убивает искусство”» [Барнс 2020, 82]. Вкус сиюминутен и субъективен, искусство же – это всегда «путешествие за пределы вкуса [Барнс 2020, 149].
Заочно споря с эстетами Belle Époque, Барнс утверждает, что жизнь не может стать искусством, однако искусство вполне способно вмешиваться в жизнь. Иллюстрируется этот тезис вновь романом «Наоборот», а точнее – его связью с судьбой Оскара Уайльда. Известно, что именно роман Гюис-манса вдохновил Уайльда на написание «Дориана Грея», более того, сама книга тоже фигурирует в английском романе – эту книгу дает лорд Генри юному Дориану, после чего и начинается декадентское падение героя. Однако Барнсу важно не это – в конце концов Гюисманс вдохновил целую плеяду писателей-декадентов. Б. Стейблфорд называет «Наоборот» «камнем, на котором будет воздвигнуто здание всей последующей декадентской прозы» [Stableford 1998, 40]. Барнс концентрируется на влиянии книги на жизнь самого Уайльда. Несколько раз он обращается к суду над Уайльдом, в котором роман Гюисманса (еще не переведенный на английский язык) служит решающим аргументом адвоката Карсона, доказывающего аморальность писателя и справедливость обвинения его в содомии.
Имморализм – еще одна черта «Наоборот», экстраполируемая на всю Belle Époque. Важно отметить, что имморальность не воспринимается Барнсом как нечто отрицательное, а характеризуется исключительно как антитеза морализаторству и дидактизму в искусстве и религиозному пуританству в жизни. Не менее важной для писателя оказывается и новаторская форма романа, отличающегося необычными для художественной прозы XIX в. бессюжетностью и тяготением к эссеизму, также свидетельствующих о потребности преодолеть любого рода ограничения, произвести очередной эксперимент с формой. Одной из важных структурных особенностей поэтики «Наоборот» являются «чувственные описания-каталоги» [Вайнштейн 2005, 433]. Гюисманс подробно описывает предметы искусства, интерьеры и ароматы. Барнс заимствует этот прием, отводя большое место в своем повествовании «сплетням сексуального характера» [Барнс 2020, 201]. В своеобразном каталоге писатель представляет подробный обзор романов, интимных предпочтений и физиологических особенностей знаковых персонажей эпохи (Сары Бернар, Жана Лоррена, князя Эдмона де Полиньяка, самого доктора Поцци и др.), подчеркивая таким образом еще одну характерную черту Belle Époque – тяготение к излишествам.
Однако главным маркером «избыточности» как одной из доминант эпохи снова становится искусство, а точнее – художественные предпочтения современников. Так, Барнс отмечает, что Флобер для этого времени прежде всего автор не «Госпожи Бовари» или «Бувара и Пекюше», признанных сегодня вершинами писательского мастерства, но «кинокартин-ных» [Барнс 2020, 132] и экзотичных «Саламбо» и «Искушения святого Антония», привлекающих эстетов своей нежизнеподобностью и чувственностью. Другим любимцем эпохи был оглушительный и монументальный Вагнер, сюжеты опер которого тоже довольно далеки от реальности и устремлены в далекое мифологическое прошлое. Однако избыточность, по мнению Барнса, быстро устаревает, а искусство, оторванное от жизни и современности, так же нежизнеспособно, как эстетские попытки превратить жизнь в искусство. «Красота по определению современна» [Барнс
2020, 90] – цитирует Барнс Оскара Уайльда, но тут же замечает подвижность понятия «современность». Понятие о красоте, современной Уайльду, – ретроспективной, пышной и чрезмерной, сегодня мыслится как вульгарность (ср. также с замечанием О.Б. Вайнштейн о пересмотре «Вагнеровского канона»: «Культовым произведением Вагнера в конце XIX века считался “Парсифаль”, особенно хор девушек-цветов в волшебном саду Клингзора. А сейчас эта сцена никогда не включается в сборники “избранного” Вагнера» [Вайнштейн 2005, 439]).
Однако одновременно с искусством, устремленным в прошлое, существовало и то, что интересовалось современностью, – истинным расцветом Belle Époque Барнс считает живопись модернизма, или, еще точнее, творчество импрессионистов и постимпрессионистов (Э. Дега, К. Моне). Примечательно, что «родным», британским прерафаэлитам писатель отказывает в праве считаться модернистами, прежде всего ввиду все той же устремленности в прошлое: «Невзирая на свежую цветовую гамму и свежий взгляд прерафаэлитов, их искусство было обращено к прошлому, к истории, к повествовательности <…>. Французское же искусство, напротив, неодолимо стремилось к современности, как в плане сюжетов, так и в плане техники» [Барнс 2020, 50].
Напряженная борьба устремленности к прошлому и привычному с новым и прогрессивным свойственна не только искусству, но и общественной жизни Belle Époque. Большое внимание Барнс уделяет политическим волнениям эпохи, основными источниками которых были, во-первых, колониальные амбиции Франции: «В тот период французы, как и британцы, верили в свою уникальную миссию спасения мировой цивилизации; и те и другие – что вполне предсказуемо – считали собственную цивилизационную миссию более цивилизованной» [Барнс 2020, 45] и, во-вторых, неизбывный шовинизм французского общества: особенно отмечает Барнс рост антисемитских настроений (в том числе в связи с делом Дрейфуса), а также страх Старого света перед «американизацией». Даже идущие в ногу с модой и временем друзья доктора Поцци – князь де Полиньяк и граф де Монтескью – оказываются привязаны к прошлому ввиду своего аристократического происхождения и стремления его сохранить.
Таким образом, Belle Époque в книге Барнса представлена как время кризисов и парадоксов: стремление сохранить старое сосуществует с тенденцией к разрушению норм, любовь к избыточности и разнообразию – с шовинизмом и закрытостью. Моральный упадок, нервозность, скандальность – все это, несомненно, признаки Прекрасной эпохи, однако наряду с ними (и, возможно, благодаря им), именно эта эпоха формирует героя нового типа – не идеального, но жизнелюбивого, свободного, деятельного и открытого. Принципиально важным для писателя является тезис Поцци из предисловия к «Трактату» по гинекологии: «Шовинизм – одна из форм невежества» [Барнс 2020, 74]. В авторском послесловии Барнс повторяет эту максиму, вписывая ее уже в современный контекст выхода Великобритании из Европейского союза и рассуждая об английском («не британском» – подчеркивает автор) снисходительном равнодушии к «другим» – и культурам, и языкам. Француз итальянского происхождения и англоман Поцци, таким образом, представляется героем не только своего, но и нашего времени – как минимум, он вселяет в писателя надежду, что такой человек сможет (и должен) существовать и сейчас. Важно отметить, что открытость новому и устремленность к этому новому – черты, которыми, по мнению Барнса, должен обладать не только человек, но и искусство. Равно как образ жизни денди или эстета (сконцентрированных на искусственном и, чаще всего, прошедшем) рано или поздно устареет («в старости денди неизменно жалок» [Барнс 2020, 306]), искусство, замкнутое на самом себе, оторванное от современности и обращенное не к жизни, но к истории, утверждает писатель, не сможет стать подлинно великим и вневременным.
Список литературы Рецепция belle epoque в книге Дж. Барнса "Портрет мужчины в красном"
- Барнс Дж. Потрет мужчины в красном. М.: Иностранка, 2020. 352 с.
- Бодлер Ш. Поэт современной жизни // Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. С. 283–315.
- Бондарчук Д. Через Ла-Манш и обратно // Иностранная литература. 2002. № 7. С. 272–275.
- Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 640 с.
- Горбунова О.В. Роль памяти в формировании национальной идентичности в романе Дж. Барнса «Англия, Англия» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика. 2010. Т. 10. № 1. С. 51–57.
- Земсков В.Б. Образ России в современном мире и другие сюжеты. М.: ЦГИ Принт, 2015. 243 с.
- Коноплюк Н.В. История и миф как часть модели национальной идентичности (на материале романе Джулиана Барнса «Англия, Англия») // Балтийский гуманитарный журнал, 2015. № 4(13). С. 23–26.
- Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX–XIX вв. М.: Московский государственный педагогический университет, 1995. 152 с.
- Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004. 336 с.
- Толкачёв С.П. Уровни вдохновения: французский контекст постмодернистской прозы Дж. Барнса // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2019. № 8(824). С. 184–199.
- Трыков В.П., Ощепков А.Р. Русская незнакомка во французской «республике словесности»: Образ России в литературном сознании Франции. М., Берлин: Директ-Медиа, 2021. 528 с.
- Хабибуллина Л.Ф. Миф о России в современной английской литературе. Казань: Казанский университет, 2010. 205 с.
- Шапинская Е.Н. Образ Другого в текстах культуры. М.: URSS, 2012. 214 с.
- Шарль К. Конец века / пер. с фр. А. Мурашов // Новое литературное обозрение. 2018. № 1(149). С. 9–23.
- Bentley N. Re-Writing Englishness: Imagining the Nation in Julian Barnes’s England, England and Zadie Smith’s White Teeth // Textual Practice. 2007. № 21(3). Р. 483–504.
- Böhme А.К. Challenging Englishness: Rebranding and Rewriting National Identity in Contemporary English Fiction. PhD Thesis. Giessen, 2012. 265 p.
- Browne M. Julian Barnes: ‘Biographical Novels are Kind of Cheesy’ // The Guardian. 26 Mar. 2016. URL: https://www.theguardian.com/books/2016/mar/23/julian-barnes-biographical-novels-are-kind-of-cheesy (дата обращения: 30.04.23).
- Guignery V. “A preference for things Gallic”: Julian Barnes and the French Connection // Julian Barnes: Contemporary Critical Perspectives / ed. by S. Groes, P. Childs. New York: Continuum, 2011. P. 37–50.
- Stableford B.M. Glorious Perversity: The Decline and Fall of Literary Decadence. Rockville, Maryland: Wildside Press, 1998. 152 р.
- Swanson C. Old Fartery and Literary Dish // Salon Magazine. 13.05.1996. URL: https://www.salon.com/1996/05/13/interview_14/ (дата обращения: 28.04.2023).