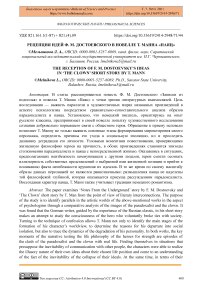Рецепция идей Ф. М. Достоевского в новелле Т. Манна "Паяц"
Автор: Мельникова Любовь Александровна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 10 т.7, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются повесть Ф. М. Достоевского «Записки из подполья» и новелла Т. Манна «Паяц» с точки зрения литературных взаимосвязей. Цель исследования - выявить параллели в художественных мирах названных произведений в аспекте психологизма посредством сравнительно-сопоставительного анализа образов парадоксалиста и паяца. Установлено, что немецкий писатель, ориентируясь на опыт русского классика, предпринимает в своей новелле попытку художественного исследования сознания добровольно порвавшего связи с обществом героя. Обращение к приему исповеди позволяет Т. Манну не только выявить основные этапы формирования мировоззрения своего персонажа, определить причины его ухода в социальную изоляцию, но и проследить динамику деградации его личности. Узловыми моментами повествования, проверяющими жизненную философию героев на прочность, в обоих произведениях становятся эпизоды столкновения парадоксалиста и паяца с непосредственной жизнью. Оказавшись в ситуациях, предполагающих неизбежность коммуникации с другими людьми, герои смогли осознать иллюзорность собственных представлений о выбранной ими жизненной позиции и прийти к пониманию факта неизбежности крушения их идеалов. В то же время по своему масштабу образы данных персонажей не являются равнозначными: размышления паяца не наделены той философской глубиной, которая оказывается присуща рассуждениям парадоксалиста. Воссоздавая характер паяца, Т. Манн также учитывает традиции немецкого романтизма.
Манн, достоевский, паяц, парадоксалист, исповедальное начало, литературный диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/14121478
IDR: 14121478 | УДК: 821.161.1(1-87) | DOI: 10.33619/2414-2948/71/44
Текст научной статьи Рецепция идей Ф. М. Достоевского в новелле Т. Манна "Паяц"
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 821.161.1(1-87) + 821.(4).09
Немецкий писатель Томас Манн (1875–1955) был большим почитателем русской литературы XIX века. Идеи, образы персонажей, эстетические установки русских классиков становились предметом его художественной рецепции. Объектом особого осмысления данного немецкого автора являлось творческое наследие Ф. М. Достоевского. На факт наличия примет литературного влияния поэтики этого русского писателя в творчестве Т. Манна обращали внимание В. Х. Гильманова [2], И. Кузнецова [5], Ю. Леман [6], И. Мишин [8], Т. Д. Мотылева [9], Г. Фридлендер [12].
К числу наиболее сильно впечатливших немецкого автора произведений Ф. М. Достоевского относится повесть «Записки из подполья».
Актуальность заявленной проблематики исследования обусловлена необходимостью подробного и всестороннего изучения особенностей рецепции художественного опыта Ф.М. Достоевского в раннем творчестве Т. Манна с целью расширения представлений об особенностях русско-немецкого литературного диалога XIX-ХХ веков.
Материалом исследования послужили повесть Ф. М. Достоевского «Записки из Подполья» и новелла Т. Манна «Паяц». В качестве методов исследования использовались сравнительно-исторический метод и метод описательной поэтики.
Новеллу Т. Манна «Паяц» и повесть Ф. М. Достоевского «Записки из подполья» связывает общность проблематики. В обоих произведениях центральной является тема отстраненности человека от общественной жизни. Образы центральных персонажей анализируемых текстов пребывают в состоянии конфликта с социумом. Немецкий исследователь Ю. Леман указывает на следующие сходства парадоксалиста и паяца: 1) индивидуалисты-эгоцентрики, разорвавшие связь с обществом; 2) не умеют любить, презирают себя; 3) являются жалкими и упадочными созерцателями жизни; 4) вызывают сочувствие и отвращение одновременно; 5) используют исповедь в качестве средства выхода из социальной изоляции [6, с. 144].
Обратимся в настоящей статье к развернутому сравнительно-сопоставительному анализу образов паяца и парадоксалиста с целью выявления роли и значения исповедального начала в раскрытии характеров данных героев.
Необходимо отметить коренную разницу между паяцем и парадоксалистом, заключающуюся в различии их материального положения: финансовое благополучие паяца позволяет ему жить в относительном комфорте и не испытывать никакого давления со стороны общества, он — выходец из семьи добропорядочных бюргеров, относящихся в своем городе к элите, в образе парадоксалиста же отчасти присутствуют черты «забитого» бедностью и насмешками окружающих черты «маленького человека». Между парадоксалистом и паяцем есть существенная разница в возрасте: герой Ф. М. Достоевского — 40-летний человек, герою Т. Манна нет еще и 30. Разный объем и жизненного опыта данных персонажей может объяснить в ряде случае различие в их взглядах.
Замкнутость паяца и парадоксалиста, добровольно отказавшихся от социальных контактов, обусловливает их сосредоточенность на своем внутреннем мире, объясняет проявляемый ими интерес к психологии, попытки найти мотивировку как своим собственным поступкам, так и поступкам других людей. Оба героя обращаются к исповеди как к средству выражения своих взглядов на мир и свое место в нем. В обоих произведениях художественному исследованию подвергается процесс самораскрытия внутренне деградирующих персонажей, осознающих свое постепенное моральное разложение. Исповедь парадоксалиста являет нам картину мятущегося и страдающего сознания [10, с. 61], исповедь паяца — это откровения стремящегося «вдаваться в психологию» человека, желающего утешить себя сознанием «неизбежности всего пережитого».
Характеры парадоксалиста и паяца отмечены противоречивостью, которая обусловлена переживаемым каждым из них конфликтом между внешним поведением и внутренним отношением к окружению. Характеризуя тактику своего поведения в юности, Паяц отмечает: «Любимец своих родных и знакомых, я весело вращался в их кругу, был обходителен и любезен ради удовольствия играть роль любезного светского юноши, хотя инстинктивно уже начал презирать всех этих людей, черствых и лишенных воображения» [7, с. 47]. Испытывающий моральное удовлетворение от наносимых им обид другим людям, подпольный человек в то же время признается: «я не только не злой, но даже и не озлобленный, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу» [3, с. 401].
Паяц излагает наиболее значимые из пережитых им событий, используя хронологическую последовательность основных этапов взросления: детство, юность, молодость, начало самостоятельной обособленной жизни после получения наследства. Наблюдая за поведением родителей, манновский герой уже в детстве задумывается о выборе наиболее приемлемой для себя жизненной стратегии: «что лучше: провести жизнь в мечтательном раздумье или же действовать и достичь могущества?» [7, с. 44].
Парадоксалист же, излагая историю своей жизни, использует, как справедливо отмечает исследовательница Н. Ю. Честнова, психологически обусловленную последовательность событий [13, с. 13]. Основным критерием очередности описываемых подпольным человеком событий является сила эмоционального воздействия последних на его сознание.
Т. Манн, так же, как и Ф. М. Достоевский особое внимание уделяет исследованию причин, побудивших его персонажа порвать связи с социумом. Парадоксалист «Записок» избирает свой образ существования не только потому, что он беден <…>, но и потому, что он «теоретически» не видит смысла в какой-либо социальной деятельности» [4, с. 198]. Паяц же отстраняется от общества из-за стремления жить «сообразно своим вкусам». Социальной активности он предпочитает пассивно-созерцательную жизнь, наполненную чтением книг, музицированием, прогулками, посещением спектаклей и концертов.
Подобно романтическому герою, испытывающему приступы непонятной тоски, Паяц вскоре после получения наследства отправляется в 3-х летнее путешествие по разным странам и континентам. Однако наряду с желанием постоянного обогащения своего внутреннего мира у манновского персонажа также присутствуют филистерские черты типичного ленивого буржуа, связанного с потребностью в спокойной и оседлой жизни. Вернувшись из путешествия, герой радуется в первую очередь не внутреннему преображению из-за полученных во время странствий новых впечатлений, а возможности вести мирную, созерцательную жизнь в среднегерманском городе, пребывая в «беспечной независимости» и распоряжаясь скромными остатками своего состояния. Данный этап являет собой знаковый рубеж в жизни Паяца. Стремившийся до этого к оседлости герой оказывается огорчен фактом осознания того, что его положение «до той поры всегда бывшее чем-то временным, переходным теперь должно просматриваться как постоянное, неизменное» [7, с. 56]. Данное признание свидетельствует о следующих переменах в мировидении паяца: 1) у героя нет больше оптимистичных надежд на будущее; 2) предчувствие грядущей стагнации его личностного развития вызывает у него внутренний дискомфорт.
Для обоих персонажей очень важно понять свое настоящее отношение к обществу. Осознание собственного превосходства, прежде всего по уровню своего интеллектуального развития, причудливо сочетается в образах парадоксалиста и паяца с болезненной потребностью в непосредственном человеческом общении.
И паяц, и парадоксалист большое значение придают начитанности, знакомству с литературными произведениями. Герой новеллы Т. Манна признает, что в юности его мечтательная созерцательность усиливалась из-за чтения книг и стремления отождествлять с каким-либо литературным персонажем. Персонаж же Достоевского цинично обходится с литературным материалом, высмеивая его.
Значительную роль в раскрытии героев играют эпизоды их столкновения с непосредственной жизнью. Парадоксалист встречается со своими школьными товарищами и проституткой Лизой. Паяц предпринимает попытку знакомства с Анной, дочерью советника Райнера.
Для манновского персонажа эта встреча служит своеобразным экзаменом на жизненную пригодность избранной им позиции, а также своего рода индикатором происходящих перемен в его внутреннем мире: «Вот теперь должно выясниться, располагаю ли я еще некоторой долей жизнерадостной уверенности и светской любезности, или же у меня действительно были основания для угрюмости и почти безысходного отчаяния, владевших мною в последние недели?» [6, с. 70]. В данном эпизоде также ощутимо влияние эссе Г. фон Клейста «О театре марионеток», в котором естественная грация, присущая живой жизни, противопоставляется сознанию и рефлексии, «сцена, в которой неловкость Паяца представлена наиболее очевидно, обнаруживает ряд характерных совпадений со вставным эпизодом эссе Клейста — историей тщеславного купальщика. Как и купальщик Клейста, герой рассказа пытается действовать уверенно и непринужденно <…>, но видя тщетность своих усилий, краснеет от негодования и стыда [11]. Неприятно удивившее персонажа во время его визита на благотворительный базар осознание произошедшей с ним метаморфозы способствует крушению его иллюзий о собственной исключительности. Начиная с этого момента, герой приходит к пониманию ошибочности своих представлений о выбранном им жизненном пути.
Важным различием в аспекте функционирования исповедального начала в рассматриваемых произведениях является тот факт, что в «Записках из подполья» есть исповедальные ситуации, а в «Паяце» они отсутствуют. Герой не привык показывать своего истинного отношения к социуму, искренний рассказ окружающим о своих настоящих чувствах и переживаниях также для него оказывается невозможен.
Эволюция внутренних взглядов подпольного человека приводит к пониманию им того, что «последовательное отрицание все равно не дает ему успокоения, и внезапно он начинает одобрять то, что отрицал» [1, с. 37]. Благодаря повторному переживанию прошлого через процесс написания записок происходит смена вектора движения героя, направленного теперь на выход из подполья [13, с. 18]. Паяц же, напротив, в финале ведомых им записей смиряется со своей участью заурядного и замкнувшегося в себе филистера: «Боюсь, получится так, что я и дальше буду жить, и дальше буду есть, спать, понемножку заниматься кое-чем и мало-помалу с тупой покорностью привыкну к тому, то я – «смешная и жалкая фигура» [7, с. 75].
Отличительной чертой «Записок» парадоксалиста является их подчеркнутая полемичность, вследствие этого «любая позиция провоцирует прекословие, препятствующее обретению четкого мнения. Подобная последовательность непоследовательности приводит к постоянно возвращающимся темам и аргументам» [1, с. 37]. Паяц не столь сильно ориентирован на потенциальную реакцию читателя его записей, поэтому он достаточно сдержан в проявлении своих эмоций.
Герой Достоевского — философ, герой Т. Манна — пассивный созерцатель жизни, ставший жертвой собственных иллюзий, человек, не сумевший реализовать себя ни в искусстве, ни в коммерческой деятельности. Убежденность в собственной правоте в итоге сменяется у паяца сетованием о своем разрыве с обществом.
Таким образом, посредством использования исповедального дискурса повествования русский и немецкий авторы пытаются выявить основные этапы становления личности и формирования мировоззрения своих персонажей, проследить эволюцию их жизненных взглядов, а также динамику деградации их личности. Ориентируясь на художественный опыт русского классика, немецкий писатель пытается подвергнуть исследованию внутренний мир морально разлагающегося героя-отщепенца. В то же время, воссоздавая характер своего персонажа, Т. Манн учитывает традиции немецкого романтизма.
Список литературы Рецепция идей Ф. М. Достоевского в новелле Т. Манна "Паяц"
- Геригк Х. Ю. Литературное мастерство Достоевского в развитии. От «Записок из Мертвого дома» до «Братьев Карамазовых». СПб., 2016. 320 с.
- Гильманова В. Х. Русский курсив в творческой судьбе Томаса Манна // Формирование образов России и русских в западных дискурсивных практиках ХХ XXI веков: Материалы Международной научной конференции. Воронеж: Научная книга, 2018. С. 275 293.
- Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Собрание сочинений в 12 т. Т. 2. М.: Правда, 1982. С. 400 504.
- Кашина Н. В. Человек в творчестве Ф.М. Достоевского. М.: Художественная литература, 1986. 318 с.
- Кузнецова И. Следы Достоевского на снегу «Волшебной горы» Т. Манна // Достоевский: материалы и исследования. 2013. Т. 20. С. 439 454.
- Леман Ю. Русская литература в Германии. Восприятие русской литературы в художественном творчестве и литературной критике немецкоязычных писателей с XVIII века до настоящего времени. М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. 480 с.
- Манн Т. Паяц // Манн Т. Собрание сочинений в 10 т.: Т. 7. Рассказы. М.: Гос. изд во художественной литературы, 1960. С. 41 75.
- Мишин И. Достоевский и зарубежные писатели (основные проблемы творчества, традиции и новаторство). Ростов на Дону, 1974. 135 с.
- Мотылева Т. Томас Манн и русская литература: (К 100 летию со дня рождения). М.: Знание, 1975. 64 с.
- Одиноков В. Г. Типология образов в художественной системе Ф.М. Достоевского. Новосибирск: Наука, 1981. 144 с.
- Селезнева Е. В. В поисках утраченной грации: Генрих фон Клейст и Томас Манн // Litera. 2019. №1. С. 34 42. https://doi.org/10.25136/2409 8698.2019.1.28699
- Фридлендер Г. Достоевский и мировая литература. М.: Художественная литература, 1979. 423 с.
- Честнова Н. Ю. Исповедальность как принцип становления поэтики художественной прозы Ф.М. Достоевского (на материале повести «Записки из подполья» и романа «Подросток»): автореф. дис…канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2012. 26 с.