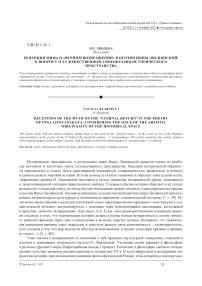Рецепция мифа о "вечном возвращении" в поэзии Инны Лиснянской: к вопросу о художественном своеобразии исторического пространства
Автор: Рябцева Наталья Евгеньевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 (81), 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается мотивный комплекс, восходящий к мифу о «вечном возвращении», в творчестве одного из ярчайших представителей поэзии 2-ой половины ХХ столетия - И. Лиснянской. Исследуются художественные особенности пространственной образности в поэзии автора, с помощью которых реализуется мифологема «вечного возвращения».
Топос, хронотоп, историческое пространство, мифопоэтика, цикличность, семантическая поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/148325230
IDR: 148325230 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Рецепция мифа о "вечном возвращении" в поэзии Инны Лиснянской: к вопросу о художественном своеобразии исторического пространства
Историческое пространство в поэтическом мире Инны Лиснянской является одним из наиболее значимых и частотных типов художественного пространства. Рецепция исторической образности определяется в стихах поэта христианской доминантой, сопряженностью временного и вечного в едином сюжете мировой истории. В этом контексте особую значимость обретает тема судьбы поэта. Лирическая героиня И. Лиснянской находится в самом эпицентре исторической драмы, оказывается в экзистенциальной ситуации нравственного выбора. Узловые события истории обретают в её стихах религиозно-этический статус, поэтому вполне обоснованно можно говорить о христианском историзме в поэзии Инны Лиснянской. Значимые принципы художественной картины мира Лиснянской ориентированы на философско-культурную и эстетическую парадигму «семантической поэтики» [7, с. 49]. Религиозно-философский и культурологический смысл пространственно-временного континуума в «семантической поэтике» актуализируется с помощью идеи повторяющейся циклизации, восходящей к архетипу «вечного возвращения». Как писал А.Б. Есин, «вся раннехристианская концепция времени сводится к тому, что человеческая история должна в конце концов возвратиться к своему началу: от райской гармонии через грех и искупление к вечному царству истины. Интересно, что циклическая концепция времени здесь переходит в довольно редкую свою разновидность – атемпоральность, суть которой в том, что мир мыслится абсолютно неизменным, а значит, категория времени утрачивает смысл…» [5, с. 60].
Тема «вечного возвращения» и связанный с ней принцип «культурной синхронии» становятся ключом к пониманию творческого метода И. Лиснянской. Уходящая своим корнями в философию и религию Древнего мира (Пифагорейская школа, Гераклит, Екклесиаст) философия «вечного возвращения» получает активное распространение в литературе ХХ в. В культивируемой в модернизме мифологии истории, при несомненном влиянии философских идей Ницше, тема возврата и повтора мно- гократно варьируется и развивается в связи с представлениями о вечности как непрерывной мировой памяти. История понимается как «совокупность живого опыта, в разных формах которого, в том числе и в мифе, историческое закреплено в памяти и творчески активном припоминании» [6, с. 10].
Особую важность представляет анализ концепции «вечного возвращения» в акмеизме, поскольку именно отдельные элементы этой художественной системы нашли своё продолжение в творчестве И. Лиснянской. Тема «вечного возвращения» разрабатывается И. Лиснянской в свете философско-эстетических взглядов О. Мандельштама: «повторению» подвергаются события культурного ряда, освобождающие историю от обречённого движения часовой стрелки по циферблату. «Мысль о круговороте “вечного возвращения” оказывается для Мандельштама последней опорой против хаоса Смутного времени. В центре этого круговорота - вневременная точка, “где время не бежит”, место вожделенного покоя и равновесия» [4, с. 220]. Таким идеальным временем, «золотым веком», становится для поэта Античность, метафорически воплощённая в совершенной форме шара или круга: «Античная мысль понимала добро как благо или благополучие... Добро, благополучие, здоровье были слиты в одно представление, как полновесный и однородный золотой шар» («Заметки о Шенье») [11, Т. 2, с. 162]. Исследователь О.М. Седых, сопоставляя философию времени О. Мандельштама и О. Шпенглера, настаивает на их родственном отношении к античной культуре как к культуре, отрицающей время. В контексте античной традиции прочитывается у О. Мандельштама тема остановленного мгновения («Всё было встарь, всё повториться снова, / И сладок нам лишь узнаванья миг») [14, с. 109]. Л.Г. Панова в своей работе «„Мир”, „пространство” и „время” в поэзии Осипа Мандельштама» выделяет следующие способы художественного выражения историко-культурной модели «вечного возвращения»: цитатность, обильный подтекст, включение лексем со значением повторяемости («опять», «снова», «вновь»), собственных имён, имеющих в качестве уникальных референтов мифологических героев, героев истории и культуры, вкрапление отдельных явлений культуры как знаков великих цивилизаций [13, с. 360, 363].
Мифологема «вечного возвращения» воспроизводится в творчестве И. Лиснянской с помощью художественных приемов, характерных для «поэтики реминисценций» (М.Л. Гаспаров): образной полисемии и полицитатности. Центральная особенность поэтического стиля автора заключается в активном использовании историко-культурных ассоциаций, недаром одна из устойчивых метафор поэзии И. Лиснянской тесно перекликается с мандельштамовским сравнением поэзии с «плугом, взрывающим время так, что глубинные слои времени, его чернозём, оказываются сверху»: «Память я перепахала, / Но возникли, как вчера, / Дальней пальмы опахало, / Дней павлиньи веера» [8, с. 384]. Симптоматично, что образ веера (и его смысловые аналоги), рифмуется в стихах И. Лиснянской с широко известным образом О. Мандельштама: «веер времён», означающий творческое единство - «культурную синхронизацию» - разновременных событий. В статье «О природе слова» О. Мандельштам рассматривает «эллинизм» как «систему в бергсоновском смысле слова, которую человек развёртывает вокруг себя, как веер явлений, освобождённых от временной зависимости, соподчинённых внутренней связи через человеческое Я» [11, Т. 2, с. 182]. Смысловым ядром этого принципа является интуитивная способность поэта воспринимать культурные явления не в порядке их временной последовательности, а в особом вневременном пространственном поле: «Бергсон, – пишет Мандельштам, – рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протяжённости. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом, связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время он поддаётся умопостигаемому свёртыванию» [Там же, с. 173].
Наиболее выразительно принцип «веера времён» реализуется в стихотворении И. Лиснян-ской «Ночи Кабирии» (1997) из сборника «Ветер покоя». Автор последовательно выстраивает цепочку образов, которые соотносятся в сознании читателя с предметами, получившими в современном мире статус культурных артефактов. Каждый из них рождает ассоциации с определёнными культурными эпохами, с мастерами искусства и их произведениями: мельничный круг, винт самолёта, вентилятор, диск киноплёнки, китайский веер. Беря за основу тезис о том, что «у каждой вещи есть предки», И. Лис-нянская воспроизводит круговое движение времени, словно отматывает назад киноплёнку: «Но вентилятор, как видите, тоже звено / Меж веером, мельницей и самолётным винтом, / Крутящим ночи Ка-бирии… А вентилятора предки – китайские веера / Веют с Востока и завивают смерч / Ассоциаций, которые стоят свеч. / Свечи подкорки вечного стойче огня. / Бродский, Феллини, Сервантес - обратный ход / Времени…» [8, с. 312]. Характерно, что семантическим центром стихотворения – и сборника в целом - оказываются мотивы кинофильма и древнегреческого театра, что позволяет углубить параллели с философско-художественной концепцией времени культуры в поэзии О. Мандельштама (стихотворения «Кинематограф», 1913; «Я не увижу знаменитой «Федры»…», 1915; «-Как этих покрывал и этого убора…», 1915). Героиня И. Лиснянской, подобно героине Джульетты Мазины из кинофильма Ф. Феллини «Ночи Кабирии», скрывает слёзы и душевную боль за маской паяца: «Пусть плачут глаза и смеётся рот - / За маску сойдёт гуттаперчевая броня». Балаганно-площадная стилистика в духе комедии дель арте таит в себе трагедию современного человека, осознающего, что «в итоге всегда не то, что дано». «Потомки вещей» не воссоздают с точностью культурные образцы, но лишь пытаются их копировать (отсюда движение вспять - как стремление вернуться к истинному первообразу). Однако сами чувства человека по силе своего внутреннего трагизма неизменны в веках и поэтому ничуть не уступают высокому эталону древнегреческого искусства. Трагическое в контексте опыта современности не подвергается у И. Лиснянской комическому снижению, скорее можно говорить о синтезе этих двух категорий - о трагикомедии современной жизни, в которой «судьба смеётся глазами и плачет ртом»: «Заржавлены пружины, / И ткань насквозь промокла… / И видятся руины / Трагедии Софокла. / Ушла под пепел Федра, – / Осталась диадема…/ И трепетнее ветра /Трепещущая тема…» [Там же, с. 299–300].
Театральная символика способствует воссозданию идеи соприсутствия в едином художественном пространстве образов различных эпох и культур. «Театр времени», а точнее «амфитеатр» (О.М. Седых), инициирует синхронное видение культурных явлений, что делает возможным преодоление времени, небытия, забвения и смерти. Примечательно в этом отношение стихотворение И. Лиснян-ской «Первая ласточка в вербном окне…» (1992), в котором мотив «вечного возвращения» звучит сквозь «античную» тему загробного мира и выражается с помощью характерных культурных мифологем: «ласточка», мотив прядения и образ вращающегося колеса Пенелопы, контрастное столкновение образов «золотого солнца» / «золотого руна» и «чёрной дыры» / «чёрного солнца»: «...Лёгкая ласточка, крепче держи / Солнца тяжёлые нити. / Это руно, золотое руно, – / Весточка мне из Итаки, / Где Пенелопа всё ткёт полотно, / Парус провидя во мраке. / Мне ли талдычить о чёрной дыре? / Ласточка всё залатает. / Словно по крови, по алой заре / Нитка бежит золотая» [Там же, с. 265-266]. Память художника о культурном опыте прошлых веков задаёт масштаб вечности, в которой наблюдается слитность разных эпох в едином творческом настоящем.
Подобная слитность и взаимопроникновение разновременных моментов культуры в «сладостном миге» настоящего сближает художественный мир И. Лиснянской с музыкальным искусством, в котором «слито всё в своей нерасчленимой бытийственной сущности», данной как «длительно-изменчивое настоящее» [10, с. 421,422]. Музыкальное бытие в наибольшей степени соответствует принципам культурно-исторического хронотопа, основанного на активной деятельности творческого сознания художника, пытающегося раздвинуть тесные границы пространства и времени. Как утверждает А.Ф. Лосев, «из всех искусств и мироощущений музыка наиболее ярко выражает сущность внутренней и сокровенной жизни человека», является «единственным источником познания глубин бытия», «интимнейшим и наиболее адекватным выражением стихии душевной жизни» [10, с. 305, 452]. В стихах И. Лиснян-ской можно выделить целый ряд музыкальных мотивов и образов, связанных с идеей «культурной синхронии». Живая энергия вневременного музыкального бытия сообщается искусству поэзии, мифологическим прообразом которой становится образ пастуха, играющего на свирели. «Есть вечность у минуточки, / У вечности – привал. / На самой первой дудочке / Пел рыжий Иувал… / И песня сребро-медная / Над золотом песка / Ко мне шла очень медленно / Сквозь быстрые века / Под облач- ными пеплами / Сияла и плыла – / Ещё молитвы не было, / А дудочка была» [8, с. 269]. В творчестве И. Лиснянской этот мотив разработан более подробно в зрелой лирике. При этом образы «дудочки», «свирели пастуха» как традиционные мифологемы, связанные с темой поэтического творчества, семантически сближаются у неё с мотивом божественного пения Орфея, а также с образом священной Гармонии. К образу древнегреческого музыканта и певца Орфея Лиснянская впервые обращается в стихотворении 1993 года, посвящённом А. Тарковскому. Система пространственно-временных отношений в стихотворении ориентирована на идею «культурной синхронии», которая обусловлена музыкальным мировосприятием и вместе с тем непосредственно перекликается со взглядами самого А. Тарковского на природу времени: «Вгоняют в одурь тихую / Небесные басы, /А на запястье тикают / Тарковского часы./ Хотя и покалеченный / Бесславьем и войной, / Он жил, блаженно меченный /Серебряной струной…» [Там же, с. 285].
Лейтмотивом стихотворения является образ часов, с которым связана реальная история, рассказанная И. Лиснянской в книге воспоминаний о А. Тарковском (Глава «Часы» в биографической повести «Отдельный»). «Что же до его наручных часов, то с ними связана такая история. Арсений Александрович подарил их мне в 1975 году на день рождения. Наши дни рождения рядом: у меня – 24-го, а у него - 25 июня. Мы поехали в какой-то загородный магазинчик, и он купил часы мне и точно такие же - себе. Свои на другой же день Арсений Александрович потерял в Переделкине, играя в шахматы с одним писателем». Часы, подаренные А. Тарковским, стали своеобразным духовным завещанием для И. Лиснянской: «Каждый год 25 июня, - пишет автор, - я приношу на его могилу цветы и говорю те же слова: «Здравствуйте, дорогой Арсений Александрович! Мои “часы” барахлят, но я всё живу и живу; а ваши – привычным жестом переворачиваю руку и прижимаю золотистые часы к земле – идут исправно» [9, с. 134]. В лирическом пространстве стихотворения этот образ символизируют то единое Время Культуры, по «часам» которого живут поэты разных эпох. Творческий опыт А. Тарковского в осмыслении культурно-исторического времени и пространства оказался близок И. Лиснянской. В особенности - такая черта его поэтического мира, как сопряжённость в едином пространстве мировой культуры различных эпох. «Мнемозина - искусство искусств, божественная первооснова, - считает поэт. – Она одаривает бессмертием и обрекает на забвение, соединяет миг и бесконечность, продлевает жизнь» [16, с. 518]. Лирический герой поэзии А. Тарковского воспринимает настоящее сквозь культурную память о минувших эпохах, которые оказываются в его сознании столь открыты друг другу, что поэт включается в диалог сквозь века с теми, кого считает своей «кровной роднёй» – «от Алигьери до Скиапарелли». Лирический герой А. Тарковского слышит в себе голоса Анжело Секки, Пушкина, Ван Гога, Комистаса, Мандельштама... Поэт чувствует себя наследником и продолжателем традиций «века серебряного» («блаженно меченный серебряной струной») с его «тоской по мировой культуре» (О. Мандельштам): «Я по каменной книге учу вневременный язык …» [11, Т. 1, с. 287]. По его глубокому убеждению, «культура даёт человеку понимание не только своего места в современности, но устанавливает ещё тесную связь между самыми разными эпохами». «У меня есть стихотворение, где я говорю, что мог бы оказаться в любой эпохе в любом месте мира, стоит мне только захотеть. Путём понимания» [Там же, Т. 2, с. 241].
Поэт становится живым свидетелем и участником мировой культуры, соотносит собственную биографию с творческим и личностным опытом своих великих предшественников, испытывая при этом готовность разделить с ними их трагическую участь. «Понимание», о котором говорит в своём стихотворении А. Тарковский, своеобразным образом сближается со словами М.М. Бахтина о «творческом понимании», которое «не отказывается от себя, от своего места во времени, от своей культуры и ничего не забывает. Великое дело для понимания – это вненаходимость понимающего – во времени, в пространстве, в культуре – по отношению к тому, что он хочет творчески понять» [1, с. 507].
Вслед за героем А. Тарковского И. Лиснянская стремится разомкнуть узкие границы своей эпохи, «выйти во времена иные». Героиня её лирики «влюблено вглядывается в разные эпохи» и пытается творчески совместить их в едином миге бытия:
И ходит век серебряный По кругу своему, И с ёлки равнобедренной Стекает дождь во тьму, Во тьму земли, где мается Обызвествлённый сон, – И в сердце просыпаются Орфеи всех времён.
Живу во время дикое, Забывшее азы, Но вот живу, и тикают Тарковского часы [8, c. 345].
Художественное время - prasens - осуществляет в стихотворении функцию «культурной синхронизации» разрозненных временных пластов в миге настоящего. Лирический субъект воспринимает реальность как единое и целостное бытие, в котором сняты любые «скрепы» пространства и времени, творится живая творческая Вечность. Таким образом, эмпирическое пространство-время в сознании лирического субъекта преображается в музыкальное. Ведь именно музыка способна «собирать разбитые и разбросанные куски бытия воедино, преодолевая тоску пространственного распятия бытия, воссоединять пространственные и вообще взаимно-отдельные сущности с единством и цельностью их бытия» [10, с. 451]. Знаменательно, что с темой музыки прочно связана у И. Лиснянской образная мифологема сердца («И в сердце просыпаются / Орфеи всех времён»), которая нередко отождествляется автором с понятием времени. По словам поэтессы, в беседах с А. Тарковским они нередко употребляли слово «часы» как синоним «сердца» [9, с. 133]. Мифологема сердца вновь возвращает нас к вопросу о глубоко личностной, субъективной сущности музыкального сознания, которая и обеспечивает всеобщую слитность и взаимопроникнутость разнородных частей и моментов. Символом музыкального всеединства бытия, бессмертия поэтического искусства становится для И. Лиснянской древнегреческий Орфей, усмиряющий стихийную силу истории священной Гармонией Слова и Музыки. Характерно, что этот мифологический персонаж становится для автора обобщенным символом трагической судьбы поэта. Не случайно мифологический сюжет о растерзании Орфея вакханками Диониса своеобразно коррелирует в стихах И. Лиснянской с религиозно-философской традицией, с элементами библейской образности (например, в развитии образа сердца как вместилища вселенских бед и страданий, мотива разорванного сердца, а также в слиянии образов-символов сердца и розы ).
Философско-художественная категория Гармонии является структурной доминантой культурноисторического хронотопа в творчестве И. Лиснянской, реализует вертикальную модель мироздания в свете христианского понимания Времени и Вечности. Целостный анализ пространственновременных отношений в поэзии И. Лиснянской убеждает в том, что горизонталь истории пересекается у неё с вертикалью метафизического времени, образуя единый музыкальный поток, в котором соединены разные пространственно-временные планы. Их слитность символизирует вечное бытие Духа, в котором «нет различения между будущим и прошлым, концом и началом. В нём происходит вечное свершение мистерии духа» [2, с. 451]. Условное деление времени по Вертикали и Горизонтали напоминает о соотношении двух понятий – Мелоса в ранней античности и Гармонии в христианском мире, о сущности которых писал О. Мандельштамом в статье «Скрябин и христианство» (1915). «Гармония и мелодия в новой музыке… и в теории подчас описываются с помощью условно-образных понятий, связанных с применением к музыке пространственных противопоставлений - соответственно вертикали и горизонтали. Горизонталь – мелодическая линия – совпадает с вектором времени, гармоническая составляющая развёртывается относительно мелодической линии, образуя как бы объём её, изучаемый на вертикали… В них Мандельштам нашёл полную и плодотворную аналогию христианскому пониманию времени и вечности: время в христианском вероучении имеет начало и конец, а вечность в нём – сверхвременное понятие, атрибут Бога и содержит в себе настоящее, прошедшее и будущее, и мысль Мандельштама о пространственном соотношении времени и вечности как горизонтали и вертикали в теории музыки основывается на том, что вечность существует в каждый данный момент времени» [12, с. 77]. «Христианское искусство, - утверждает поэт, - всегда действие, основанное на великой идее искупления. Это бесконечно разнообразное в своих проявлениях «подражание Христу», вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре. <...> Метафизическая сущность Гармонии теснейшим образом связана с христианским пониманием времени. Гармония - кристаллизовавшаяся вечность, она вся в поперечном разрезе времени, который знает только христианство» [11, Т. 2, с. 158, 161].
В творчестве И. Лиснянской вертикальная структура мироздания, заданная категорией Гармонии, и связанный с ней комплекс религиозно-философских идей отражают глубинное понимание поэтом метафизической сущности истории. Пространственно-временная организация целого ряда стихотворений поэта соотносится с вертикальной линией Гармонии, которая, основываясь на принципе музыкального всеединства, может стягивать в точке настоящего различные эпохи, образуя «слитность внепо-ложностей, разбитых и разъединённых в физическом пространственно-временном плане» [10, с. 450]. Историческое у И. Лиснянской воспринимается в метафизической плоскости, поэтому библейские события осмысливаются как вечно творимое настоящее, которое свершается в каждый новый момент истории. Христианская философия истории становится для поэта тем Центром, в котором «метафизическое и историческое соединены» (А.Н. Бердяев). Метафизический взгляд на историю позволяет восстановить цельность разорванного времени, таящего в себе смертоносное начало. «В дурном времени происходит разрыв между метафизическим и историческим, в то время как метафизическое возникновение истории должно установить связь между тем и другим» [3, с. 59].
Подводя итоги, отметим, что историческая модель художественного пространства отличается в поэзии Инны Лиснянской целостностью и единством, его символическим воплощением становятся сферическая форма (реализация «циклической модели» на разных художественных уровнях), а также вертикальная структура бытия, соотносимая с философско-художественной категорией Гармонии как прообразом Вечности. Личная память художника, включённая в исторический контекст эпохи, проецируется на мировой культурный опыт человечества.
Список литературы Рецепция мифа о "вечном возвращении" в поэзии Инны Лиснянской: к вопросу о художественном своеобразии исторического пространства
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / сост. С.Г. Бочаров; 2-е изд. М.: Искусство, 1986.
- Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство Кесаря / сост. и посл. П.В. Алексеева, подгот. текста и примеч. Р.К. Медведевой. М.: Республика, 1995. (Мыслители ХХ века).
- Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990.
- Гаспаров М.Л. О русской поэзии: анализы, интерпретации, характеристики. СПб.: Азбука, 2001.
- Есин А.Б. Время и пространство // Введение в литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. М.: Высшая школа, 2000.
- Исупов К.Г. Историзм Блока и символическая мифология истории (введение в проблему) // Александр Блок. Исследования и материалы. Л.: Наука, 1991. С. 3–22.
- Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д. [и др.]. Русская семантическая культурная парадигма // Russian Literature (Hague). 1974. № 7-8. Р. 49–50.
- Лиснянская И. Одинокий дар: стихи; поэмы. М.: ОГИ, 2003.
- Лиснянская И. Отдельный (воспоминательная повесть) // Знамя. 2005. № 1. С. 84–135.
- Лосев А.Ф. Форма – Стиль – Выражение; сост. А.А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1995.
- Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. / сост. С. Аверинцев, П.М. Нерлер, С.С. Аверинцев. М.: Худож. лит., 1990.
- Мандельштам О. Скрябин и христианство / О. Мандельштам; вступ. ст. А.Г. Меца, примеч. А.Г. Меца, С.В. Василенко, Ю.Л. Фрейдина, В.А. Никитина) // Русская литература. 1991. № 1. С. 64–78.
- Панова Л.Г. «Мир», «пространство» и «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М.: Языки славянской культуры, 2003.
- Седых О.М. Философия времени в творчестве О.Э. Мандельштама // Вопросы философии. 2001. № 5. С. 103–131.
- Тарковский А. Собрание сочинений: в 3-х т. / сост. Т.О. Озёрская-Тарковская; примеч. А. Лаврин. М.: Худож. лит., 1991.
- Тарковский А. «…И это мне ещё когда-нибудь присниться» // Стихотворения. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 510–523.