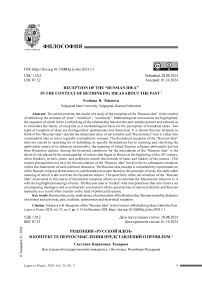Рецепция "русской идеи" в контексте переосмысления представлений о прошлом
Автор: Токарева С.Б.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследования рецепции «русской идеи» в контексте переосмысления понятий «прошлое», «традиция», «преемственность». Выделены методологические новации, последовательность которых привела к переосмыслению соотношения прошлого и современности и позволила сформулировать теорию рецепции как методологическую основу восприятия транслируемых идей. Выделены два вида рецепции идей: спонтанная и теоретическая. Показано, что любые попытки мыслить «русскую идею» вне диалектического единства универсальности и «русскости» превращают ее либо в националистическую идею, либо в логически противоречивое понятие. Теоретическая рецепция «русской идеи» заключается не в поиске или защите конкретных ее формулировок, а в восстановлении и прояснении амбивалентного характера присущей ей универсальности, смысл которой русская религиозная философия реципирует из византийской культуры. Среди исторических условий артикуляции «русской идеи» определяющую роль играет начинающаяся с начала XVIII в. в России эмансипация культуры, когда мыслители, литераторы, поэты, публицисты превращаются в глашатаев идей и предводителей масс. Тем самым создаются предпосылки не только для артикуляции «русской идеи», но и для ее последующей рецепции в рамках социально-политического дискурса. Концепт «русская идея» артикулируется представителями русского религиозного ренессанса в качестве философемы, опирающейся на принцип всеединства, амбивалентный смысл которого реципирован из византийской культуры. Обнаруженная в ходе теоретической рецепции специфика универсализма «русской идеи» позволяет соотнести заложенное в ней мессианство с выделенными смыслами всеединства. В результате трансфера в область политического дискурса «русская идея» «нагружается» интерпретациями, превращающими ее в набор конкурирующих идеологем, и односторонне связывается с особенностями национальной идентичности и русского менталитета.
Русская идея, всеединство, амбивалентность универсализма русской идеи, русский менталитет, диалектика национального и универсального, прошлое, традиция, спонтанная и теоретическая рецепция
Короткий адрес: https://sciup.org/149147470
IDR: 149147470 | УДК: 130.2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.3.1
Текст научной статьи Рецепция "русской идеи" в контексте переосмысления представлений о прошлом
DOI:
Цитирование. Токарева С. Б. Рецепция «Русской идеи» в контексте переосмысления представлений о прошлом // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 3. – С. 5–14. – DOI:
Начавшееся в 1990-е гг. сближение российского и западного социально-гуманитарного знания было отмечено не только «универсализацией» их предметного поля и методологии, но и ростом взаимного интереса к ключевым идеям, отражающим национальный характер и культурные особенности обществ. В этой связи «русская идея» становится объектом повышенного интереса не только в качестве метафорической формулы, маркирующей любые рассуждения и дискуссии на тему «русскости», но и в качестве выражения самосознания русского народа, а также как социокультурная традиция, отраженная в целом комплексе идей и связанных с ними концептов. Рецепция «русской идеи» как важнейшей составляющей отечественной общественной мысли остается актуальной теоретической задачей как в России, так и в западном россиеведении. При этом ее рассмотрение не является умозрительно-отвлеченной проблемой, но связано с мировоззренческим и методологическим противостоянием пропагандируемой западными социальными теориями точки зрения, согласно которой чуть ли не единственно возможной «рамкой» солидарности и единства представителей разных кон- фессий и народов является «идеологически нейтральный» мультикультурализм, поскольку «сцементировать» общество возможно только при помощи идей и ценностей, лишенных прямых национальных, моральных или религиозных коннотаций (вроде абстрактной «честности» или «справедливости») [Хабермас 2008].
Выяснение специфики и возможностей теоретической рецепции «русской идеи» в рамках историко-философского и социально-политического дискурсов (внутри которых, в свою очередь, выделяются различные исследовательские ракурсы) требует прояснения ее методологических оснований в контексте пересмотра взглядов на прошлое, преемственность и традицию.
Для истории общественной мысли определяющее значение имеет переосмысление представлений о прошлом в философских исследованиях ХХ века. Основы новой трактовки прошлого заложены в концепции времени А. Бергсона, изложенной в работе «Творческая эволюция» (1907). Согласно Бергсону, прошлое и настоящее не являются ни разделенными во времени, ни одновременными; прошлое сосуществует с настоящим и присут- ствует в каждом действии, участвуя в создании будущих событий и смыслов. Следовательно, настоящее не «включает» в себя прошлое как «перечень воспоминаний», но постоянно присоединяется к прошлому. Прошлое непрерывно и самопроизвольно развивается, движется вперед, «наслаивается» и «разбухает», вбирая в себя будущее. «...Если прошлое растет беспрерывно, то оно и сохраняется бесконечно. <…> В действительности прошлое сохраняется само собою, автоматически. Без сомнения, в любой момент оно следует за нами целиком: все, что мы чувствовали, думали, желали… все это тут – все тяготеет к настоящему, готовому к нему присоединиться, все напирает на дверь сознания, стремящегося его отстранить» [Бергсон 2001, 42].
Таким образом, в противоположность традиционному историзму, в котором застывшее прошлое отделено от нас ограждающей временной дистанцией, «действенная история» признает нашу фактическую привязанность к прошлому, нашу подверженность действию истории, а также ограниченность каждого субъекта своей современностью, в силу чего прошлое не может быть объективировано. По этой причине, согласно Гадамеру, совре- менность имеет право реципировать прошлое; но это «право» современности ограничено напряжением между действием «прошлого» и его «реципиентом».
Под влиянием немецкой философии, всегда тяготевшей к историческому мышлению, в гуманитарном знании было переосмыслено понятие «рецепция», в связи с чем изменился взгляд на механизмы традиции и преемственности. Классическая трактовка рецепции была разработана Г.-Г. Гадамером и Г. Блюмен-бергом [Блюменберг 2007; Гадамер 1988] и впоследствии дополнена теорией межкультурного трансфера – направления исторической компаративистики, зародившегося в проблемном поле исследований межкультурных взаимодействий [Дмитриева 2011; Лобачева 2010].
Согласно теории рецепции, «в социальноисторическом опыте, как и в науках исторического опыта (“гуманитарных”), “новое” никогда не бывает только и просто новым, а “старое”, исторически бывшее – только прошлым» [Мах-лин 2016, 214]. В отличие от исторического объективизма, игнорирующего или настойчиво желающего преодолеть «временн о е отстояние» прошлого от настоящего, в теории рецепции Г.-Г. Гадамера одновременная «впле-тенность» исторического сознания и в прошлое, и в «свою» современность рассматривается как позитивное условие деятельности историка, позволяющее ему осуществить реконструкцию вопроса, ответом на который является реципируемая идея, и включить ее в собственный «горизонт ожиданий». В этом смысле задачу рецепции надо понимать не как «вчувствование», «погружение» в прошлое (которого ожидали от историков Л. фон Ранке и В. Дильтей), а как оправдание современности .
Развивая идеи Гадамера, Г. Блюменберг обосновал неправомерность субстанциализа-ции традиции как неизменной, вневременной сущности. Рассмотренные через призму рецепции эпохальные переходы (например, от античности к христианству; от античной философии к позднеантичной теологии) представали растянутой во времени чередой малозаметных изменений, переходный (пороговый) характер которых осознавался только задним числом и становился «очевидным» благодаря закреплению посредством метафор «пово- рот», «переворот», «скачок», «революция». На деле же современность является «реципиентом», восприемницей предшествующих эпох, которые непрерывно продолжают в ней свое действие. Оригинальность эпохи всегда относительна по той причине, что рецепции значимых событий или идей осуществляются на протяжении длительного времени (например, рецепция открытия Н. Коперника осуществлялась на протяжении XVI–XVIII вв. и привела к осмыслению этой идеи не в эпоху самого открытия, а много позже, что нашло отражение в парадоксальной формуле «Коперник не был коперниканцем» [Koyré 1961, 69]).
Сочетание двух видов рецепции – реального исторического процесса наслоения, «накатывания» смыслов прошлого и деятельности историка, придающего хитросплетениям этих смыслов окрашенную «его» настоящим осознанность – В.М. Живов выразил в следующем нарративе: «История движется в тесном пространстве, проталкиваясь сквозь наши исторические идеи или, если угодно, состоит из наших исторических идей, спрессованных временем и образовавших в силу этого соединения порою нелепые, порою неожиданные... <...> Текст истории – это палимпсест. Как бы гладко ни читался текст, написанный сверху, его предшественник недоверчиво высовывается из-под свежего пласта и самой своей неуместностью заявляет о потерянной дороге и несовершенствах проводника» [Живов 2002, 705–706].
В свете выбранной методологии можно говорить о двух основных формах рецепции идей. Спонтанная рецепция идей реализуется в форме непрерывных воздействий на новые поколения или иные культурные миры. Эти спонтанные воздействия дополняются пассивным осознанным копированием, некритичным следованием за интеллектуальными образцами, которые можно обозначить как «сниженную» рецепцию. Теоретическая рецепция идей осуществляется герменевтическими методами в форме реконструкции , интерпретации, критики, реминисценций и конструирования смыслов, связанных с соответствующими концептами. Основными объектами теоретической рецепции «русской идеи» являются тексты-источники, критическая литература и публицистика.
Исходный вопрос теоретической рецепции «русской идеи» – это вопрос о том, как универсальная идея может быть одновременно русской? В самом деле, при всем разнообразии смысловых трансформаций данного концепта в них «всегда оставалось место для понимания русской национальной идеи как воплощения христианского идеала» [Иванов 1994, 371], «искания всеобщего спасения», где «все ответственны за всех» [Бердяев 2023]. По мнению Л.П. Карсавина, эта парадоксальность «русской идеи» присуща всей православной русской культуре постольку, поскольку задача ее одновременно «и универсальная, и индивидуально-национальная» [Карсавин 1922, 71]. Любые попытки мыслить «русскую идею» вне диалектического единства универсальности и «русскости» превращают ее либо в националистическую идею, либо в логически противоречивое понятие. Стремление избавиться от противоречия путем исключения национального «компонента» приводит к транснациональному универсализму, из которого вытекает невозможность самого феномена национальной философии. Так, М.К. Мамардашвили утверждает, что человек философствующий обязан трансцендировать «окружающую, родную, свою собственную культуру» [Мамардашвили 1992, 337].
Отрицание самобытности русской философии является исходным пунктом наиболее радикальных вариантов дискредитации «русской идеи». Это хорошо видно на примере рассуждений польско-американского историка А. Валицкого. В своем интервью с показательным названием «Русская мысль является частью европейской мысли» он говорит: «Согласно моей точке зрения, изложенной в ряде книг, нет какой-то особой уникальности русской мысли. Объясняя русские культурные течения в компаративистском плане, я показывал, что, хотя они оригинальны и интересны, все-таки их, по-моему, нельзя считать самобытными и исключительными в абсолютном смысле» [Маслин (ред.) 2017, 283]. Тем самым он разрывает генетическую связь между «русской идеей» и ключевым для русской религиозной философии принципом всеединства, вследствие чего «русская идея» лишается универсальности как своей существенной характеристики, и в ней остается только
«национальное». В результате содержание «русской идеи» сводится Валицким к тривиальному набору национальный характер – национальное превосходство – русское мессианство , из чего он затем делает ожидаемый (в рамках принятой логики) вывод о том, что термин «русская идея» противоречив и лишен положительного смысла, а потому «нет необходимости замыкаться в рамках какой-то русской идеи» [Валицкий 1994, 72].
Таким образом, защита самостоятельности русской философии отечественными мыслителями диктовалась отнюдь не уязвленным самолюбием.
Нельзя отрицать, что длительное историческое взаимодействие русской и западной философской мысли отличалось асимметричностью: в период формирования в России университетской среды русская философия в значительной степени находилась под воздействием западных учений, в то время как обратное влияние носило фрагментарный и окказиональный характер. Мысль о том, что в области философской мысли Запад выступал социумом-донором, а Россия – социумом-реципиентом, высказывалась неоднократно как российскими, так и зарубежными авторами. Соглашаясь с такой оценкой, высказанной Ф. Ланном [Lannes 1891], Б.В. Яковенко в оригинальном обобщающем труде «История русской философии», опубликованном впервые в 1922 г. в Париже, прямо говорит о несамостоятельности русской философской мысли: «Не может быть и речи о каком-либо самостоятельном философствовании в России до XVIII в. Но и он дал в этой сфере очень немного заслуживающего внимания» [Яковенко 2003, 26]; «…На протяжении всей истории русской философии постоянно наблюдается ее зависимость от философских воззрений других времен и народов, в том числе и таких, которые составили классику философской мысли; но нередко это зависимость и от таких воззрений, в основе которых лежат мотивы, чуждые философской мысли и философскому творчеству (главным образом религиозные и политические мотивы)» [Яковенко 2003, 16].
В.В. Зеньковский, возражая против такой оценки рецепции западной философии, разводит «подражание» и «влияние» и признает последнее самым верным свидетельством самобытности русской мысли: «Понятие “влияние” может быть применимо лишь там, где имеется налицо хоть какая-нибудь доля самостоятельности и оригинальности – без этого невозможно говорить о влиянии: нельзя же влиять на пустое место. Поэтому в исторических исследованиях и изучают влияние, особенно на тех, кто выделяется своей самостоятельностью…» [Зеньковский 1999, 21].
Теоретическая рецепция «русской идеи» заключается не в поиске или защите конкретных ее формулировок, а в восстановлении и прояснении амбивалентного характера ее универсальности, обусловленного лежащим в ее основании принципом всеединства. Всеединство может пониматься в двух смыслах: как уже существующее единство, единство как данность («гармония», «симфония»); как процесс собирания в целое, движение к единству того, что в данный момент разобщено. «Русская идея» есть призыв к объединению разобщенного, разделенного на противостоящие друг другу культуры, народы и классы человечества и приведению его «под православным водительством ставшей во главе славянства России» к высшему единству – единству с Богом (Ф.М. Достоевский); к этой же цели устремлен проект «общего дела» Н.Ф. Федорова, поставившего «вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т.е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства» и давшего рецепт «супраморализма, или всеобщего синтеза (т.е. всеобщего объединения)» [Федоров 1982].
Всеединство не является отвлеченным понятием; оно обозначает реальное много-единство входящих в него индивидуальностей, представленных в иерархии социального бытия субъектами более низких порядков: человечество – культурами и народами; народы и нации – социальными группами, классами и сообществами; сообщества – эмпирически конкретными единичными людьми. При этом многоединство реализуется во всей своей полноте на каждом из этих уровней. Таким образом, полнота всеединства мыслится не как механически собранная воедино сумма отдельных индивидуальностей в качестве разобщенных его моментов; она способна воплотиться в любой индивидуальности – будь то конкретная форма религиозности (православие), или конкретная культура, или конкретный народ, или даже конкретная личность – при условии, что эта индивидуальность «всецело восприняла в себя и сделала собою актуали-зованное другими индивидуальностями, явив в себе единственный, неповторимый образ всеединства» [Карсавин 1922, 99]. В литературном творчестве воплощение многоедин-ства в личности реализуется посредством прототипических образов; Достоевский рассматривает в качестве образца такого воплощения Пушкина, гениальная способность которого «перевоплощаться в гении чужих наций» есть «всецело способность русская», проявляющаяся у всего русского народа как «склонность к всемирной отзывчивости и к всепримире-нию» [Достоевский 1984, 131].
Более глубокий смысл всеединства обнаруживается при рассмотрении его в качестве рецепции принципа универсальности, воплощенного византийской культурой в образе вселенской Церкви. Святая Троица, образ вселенской Церкви, образ Богочеловека Христа, соединяющего в себе две природы, образ христианского народа, образ личности – все это смысловые варианты «всевременного и все-пространственного» всеединства, рожденные византийской культурой в период формирования христианской догматики. Прп. Максим Исповедник использовал для обозначения всеединства Церкви как объединения истинно верующих всего мира термин «καθολικός», переводимый как «соборная», а для обозначения ее географической всеохватности и повсеместной распространенности в пределах империи – термин «οίκουμενικός», переводимый как «вселенская». В первом случае универсализм выступает в форме «всеобщности» – единства христиан, приверженных истинной (православной) вере (хотя бы они и были рассеяны в пространстве и принадлежали к разным эпохам) [Ларше 2004, 238]. Полнота этого единства не имеет количественного выражения и не умаляется, когда число входящих в него верных уменьшается; в пределе оно может уменьшиться даже до одного человека, ибо «всякий человек освящается правильным исповеданием веры»; следовательно, «каждая часть Церкви, даже самая малая, даже только один верующий, может быть названа “соборной”» [Лосский 1995, 157]. Таким образом, в христианстве органическим, живым и полноценным всеединством призван стать каждый индивидуализированный субъект: и охватываемый христианской идеей мир, и исповедующий христианство народ, и отдельный человек. Эмпирическое бытие всех этих субъектов ограниченно, несовершенно и относительно; но каждый из них призван к всецелому обожению. При этом реципированной из византийской культуры метафизической идее христианского «всеединства» как «всеобщности» («соборности»), как «единства всех» актуальное историческое бытие русской Церкви не соответствовало в силу того, что она оставалась поместной, то есть национальной церковью.
Второй смысл универсальности был связан в византийской традиции с количественной, географической «вселенскостью» («все-мирностью»), отражающей эмпирическую реальность имперского мира. Между двумя видами универсальности предполагалась строгая иерархия: «Знаем, что византизм (как и вообще христианство) <...> есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства» [Леонтьев 2001, 81]. Всеединство в смысле «вселенскости» связывалось с образом России как государства-ойкумены [Кондорский 2021, 124]; это привносило в «русскую идею» «умаленное», «сниженное» этническое и отражало процесс расширения Россией своих естественных социально-географических границ (за счет миграции, торговли, войн и т. д.), в ходе которого Евразия из «вмещающего ландшафта», по выражению Л.Н. Гумилева [Гумилев 1990], превращалась в единое государство.
Необходимость теоретической рецепции «русской идеи» в рамках исторического дискурса обусловлена неизбежной ограниченностью философского подхода: работая с высокоабстрактными обобщениями, философ мало заботится о соответствии своих концептуальных построений эмпирическим (историческим) фактам. Между тем эти факты, с одной стороны, должны получить объяснение, а с другой – прояснять, конкретизировать и уточнять написанную слишком уж крупными мазками картину. К такого рода фактам относится гетерогенность византийской культуры, присутствие в ней противоборствующих комплексов идей и противоположных традиций, вследствие чего «культура Киевской Руси не повторяет и не транслирует современную ей византийскую культуру, а усваивает один ее изолированный фрагмент и даже в этом фрагменте существенно переставляет смысловые акценты» [Живов 2002, 82]. Впоследствии европейские идеи также проходили через фильтр сформулированных в концепции Москвы – Третьего Рима идейных установок: мессианских представлений, сложившегося культа государства, беспрецедентной сакрализации образа монарха и т. д.
Но определяющую роль в создании исторических условий для артикуляции «русской идеи» сыграла начавшаяся в России в начале XVIII в. эмансипация культуры, в ходе которой мыслители, литераторы, поэты, публицисты превратились в глашатаев идей и предводителей масс. Дискуссии и критические обсуждения в массовых общественно-политических изданиях положили начало социально-политической рецепции «русской идеи», ее рассмотрению в «горизонте ожиданий» современности. В дальнейшем трансфер «русской идеи» в область политического, социологического и психологического дискурса привел к вторичной категоризации «русской идеи», в ходе которой она стала утрачивать исходную определенность прототипического термина, связанного с идеей «братства народов», и приобрела статус идеологемы [Стародубец, Белугина, Колегова 2023, 347]. При этом «среди исследователей пока нет единства ни в отношении того, сколько таких идеологем проявилось в истории русского национального самосознания, ни в согласии, какие из них представляли истинное выражение русской идеи, а какие – только искажали ее сущность» [Кочеров, Парилов, Кондратьев 2018, 21].
Идеологизация «русской идеи» ожидаемо усилила ее крен к полюсу «национального». В особенности такая трактовка характерна для представителей зарубежного россиеведения. Так, А. Янов характеризует «русскую идею» как «русский национализм»; «программу экспансии, где церковь и власть действуют заодно»; «идеологию русского империализма», фундированную «тоской по сверхдержавности» и «фантомным наполеоновским комп- лексом» и толкающую страну к самоуничтожению [Янов 2015, 71, 73, 75]. Д. Ранкур-Лаферьер, анализируя в рамках психоаналитического подхода связь «русской идеи» с русской ментальностью, находит ее «пустой», отражающей «нравственный мазохизм» и «этническую паранойю», якобы присущие «этноцентрически настроенным» русским [Ранкур-Лаферьер 2003, 227–236]. Т. МакДэниел в работе «Агония русской идеи» отмечает, что в силу тесной связи «русской идеи» с религиозной философией она, подобно платоновским идеям, выступает вневременной идеальной моделью или архетипом. В этом качестве она не только бесполезна для решения насущных вопросов российской политики, но и внедряет в общественное сознание утопичные и ложные посылы – идею уникальности «русского пути» развития, чувство превосходства, идею особого предназначения русского народа, призванного к всемирно-исторической миссии [McDaniel, 1996]. Во всех случаях «русская идея» помещается в фокус прагматической оптики [Helleman 2004, 4] и оценивается как ложное и утопичное основание морали, ценностей и традиций российского общества.
Концепт «русская идея» был введен представителями русского религиозного ренессанса в качестве философемы, опирающейся на принцип всеединства, амбивалентный смысл которого реципирован русской культурой из византийской. Обнаруженная в ходе теоретической рецепции специфика универсализма «русской идеи» позволяет соотнести заложенное в ней мессианство с выделенными смыслами всеединства. В результате трансфера в область политического дискурса «русская идея» «нагружается» интерпретациями, превращающими ее в набор конкурирующих идеологем, а осуществляемые реконструкции смыслов «русской идеи» нивелируют присущую ей диалектическую связь универсальности и «русскости» и связывают ее с проблемой национальной идентичности и особенностями русского менталитета.
Список литературы Рецепция "русской идеи" в контексте переосмысления представлений о прошлом
- Бергсон 2001 - Бергсон А. Творческая эволюция. М.: ТЕРРА - Книжный клуб: КАНОН-пресс-Ц, 2001.
- Бердяев 2023 - Бердяев Н.А. Русская идея. М.: ЭКСМО, 2023.
- Блюменберг 2007 - Блюменберг Г. Из книги «Легитимность нового времени» // Новое литературное обозрение. 2007. № 5. С. 10-25.
- Валицкий 1994 - Валицкий А. По поводу «русской идеи» в русской философии // Вопросы философии. 1994. № 1. С. 68-72.
- Гадамер 1988 - Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: пер. с нем. М.: Прогресс, 1988.
- Гумилев 1990 - Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1990.
- Дмитриева 2011 - Дмитриева Е.Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 302-313.
- Достоевский 1984 - Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 26. Дневник писателя за 1877 Сентябрь - декабрь; 1880 Август. Л.: Наука, 1984. С. 129-149.
- Живов 2002 - Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: Яз. слав. культуры, 2002.
- Зеньковский 1999 - Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Т. 1. Ростов н/Д: Феникс, 1999.
- Иванов 1994 - Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994.
- Карсавин 1922 - Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея. Петербург: Academia, 1922.
- Кондорский 2021 - Кондорский Б.М. Россия как государство-ойкумена // Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». 2021. Вып. 3. С. 124-133.
- Кочеров, Парилов, Кондратьев 2018 - Кочеров С.Н., Парилов О.В., Кондратьев В.Ю. Философия русской идеи: монография. Н. Новгород: Минин. ун-т, 2018.
- Ларше 2004 - Ларше Ж. -К. Преподобный Максим Исповедник - посредник между Востоком и Западом. М.: Изд. Сретен. монастыря, 2004.
- Леонтьев 2001 - Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. Великий спор. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
- Лобачева 2010 - Лобачева Д.В. Культурный трансфер: определение, структура, роль в системе литературных взаимодействий // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. Вып. 8. С. 23-27.
- Лосский 1995 - Лосский В.Н. По образу и подобию: сб. ст. М.: Изд-во Свято-Владимир. Братства, 1995.
- Мамардашвили 1992 - Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. 2-е изд., изм. и доп. М.: Прогресс: Культура, 1992.
- Маслин (ред.) 2017 - Маслин М.А. (ред.). Русская мысль является частью европейской мысли (Интервью с Анджеем Валицким) // Русская философия за рубежом: история и современность: коллектив. моногр. М.: КНОРУС, 2017. С. 283-289.
- Махлин 2016 - Махлин В.Л. Что такое «рецепция» (к истории понятия) // Вестник культурологии. 2016. №№ 1 (76). С. 208-232.
- Ранкур-Лаферьер 2003 - Ранкур-Лаферьер Д. Россия и русские глазами американского психоаналитика: В поисках национальной идентичности. М.: Ладомир, 2003.
- Стародубец, Белугина, Колегова 2023 - Староду-бец С.Н., Белугина О.В., Колегова О.Ю. Иде-ологема «русская идея» в русской концептуальной и языковой картинах мира // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2023. Т. 14, №> 2. С. 347-364.
- Федоров 1982 - Федоров З.Ф. Сочинения. М.: Мысль, 1982.
- Хабермас 2008 -Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. М.: Наука, 2008.
- Яковенко 2003 - Яковенко Б.В. История русской философии: пер. с чеш. М.: Республика, 2003.
- Янов 2015 - Янов А.Л. Русская идея. От Николая I до Путина. Книга первая (1825-1917). М.: Новый хронограф, 2015.
- Helleman 2004 - Helleman E. W. The Russian Idea: In Search of a New Identity. Bloomington: Slavica Publishers, 2004.
- Koyré 1961 - Koyré A. Copernic et le bouleversement cosmique // La revolution astronomique: Copernic, Képler, Borelli. Série «Histoire de la penseie». Paris, Hermann, 1961. P. 9-115.
- Lannes 1891 - LannesF. Coup d'oeil sur l'histoire de la philosophie en Russie // Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger. 1891. No. 32. P. 17-51.
- McDaniel 1996 - McDaniel T. The Agony of the Russian Idea. Princeton: Princeton University Press, 1996.