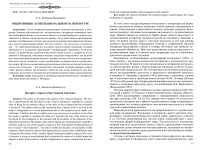Рецептивные аспекты визуального в литературе
Автор: Акснова Анастасия Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рецептивным аспектам визуального в литературе. Новизна обусловлена тем, что визуальное в литературе понимается здесь как особая форма бытия эстетического объекта, в которой раскрыто единство оцениваемого и оценки. Автор приходит к выводу, что художественное произведение оживает в воображении читателя как визуальное явление благодаря рецептивному акту читательской конкретизации. Из этого следует, что визуальная конкретизация - это такой рецептивный акт, в котором читатель зримо охватывает позицию наблюдателя и положения персонажей в изображаемом окружении. В качестве одного из рецептивных аспектов визуального автор статьи, с опорой на исследования Р. Ингардена, обозначает явление «редукции визуального» как наличия мест неполной зримой определенности, которые не могут быть сняты на протяжении всего текста, поскольку служат необходимым условием бытия художественного мира. Другим не менее важным рецептивным аспектом визуального является визуальная дистанция - тип ценностного отношения, который выражен посредством зримого образа, предстающего читателю как деталь внешности или пространства, исходящая из эмоционально-волевой установки героя или рассказчика.
Визуальное в литературе, рецептивный аспект, конкретизация, визуальная дистанция, р. ингарден
Короткий адрес: https://sciup.org/149127464
IDR: 149127464 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00067
Текст научной статьи Рецептивные аспекты визуального в литературе
В этой статье мы рассматриваем визуальное в литературе как форму бытия эстетического объекта, являющую собой единство оцениваемого и оценки. Рассмотрение в рецептивном аспекте позволяет раскрыть феноменологическую ситуацию показывания визуального в художественном мире. Невещественность словесного образа делает область визуального в художественной литературе труднодоступной для изучения и приводит к тому, что форма зримого мира в этом виде искусства до сих пор лишена должного рассмотрения. Определение понятия в современной научной литературе представлено статьей в словаре «Поэтика» как свойство художественной образности. При этом рецептивные аспекты визуального в художественном мире и в каждом роде литературы еще не становились предметом специального изучения.
Большинство опубликованных исследований визуального 1950-х гг. было связано с изучением психологии восприятия и деятельностью зрительной системы. В нашем случае эмоциональное восприятие визуального, работа органов зрения и психологические процессы остаются за рамками научной специальности. По этой причине мы не можем руководствоваться исследованиями искусства и визуального восприятия психолога и киноведа Р. Арнхейма [Арнхейм 1994], работами о киноязыке, такими как «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» Ю.М. Лотмана [Лотман 1973] или «Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии» принадлежащего к московско-тартускому кругу исследователей М.Б. Ямпольского [Ямпольский 1993].
На очень широком философском и художественном материале М.Б. Ямпольский в работе «О близком: очерки неметрического зрения» [Ямпольский 2001] рассматривает деформации и трансформации визуального как факт культуры XIX XX вв. Но, прежде чем говорить об аномальных зрительных ситуациях как о фактах художественного мира литературного произведения, мы должны прояснить само явление визуального в литературе и его рецептивные аспекты.
Мера визуальной проясненности или непроясненности в художественном мире неоднородна. Визуальное в литературе дается читателю опосредованно, глазами рассказчика или глазами героя, лирического субъекта и т.д. Поэтому рецептивный акт, так или иначе, взаимодействует с аксиологической сферой изображенного мира. Тип ценностного отношения, который выражен посредством зримого образа, предстающего читателю как реальная деталь внешности или пространства, исходящая из эмоционально-волевой установки героя, рассказчика или повествователя, является визуальной дистанцией.
Случаи, в которых визуальное устраняется (редуцируется), мы связываем с открытием Р. Ингарденом «мест неполной определенности», при-

сущих литературному произведению. К таким местам относятся не только визуальные образы, но и образы звука, ощущения, вкуса, аромата, которые тоже воображает читатель. Поэтому в рамках проблемы визуального мы проясняем явление редукции визуального. Соответственно, термин «редукция визуального» призван указывать на устранение конкретной воображаемой сферы художественного мира, которая является необходимым условием его бытия.
На противоположном «редукции визуального» полюсе находится явление «визуальной конкретизации», которое указывает на рецептивный акт, где читатель зримо охватывает позицию наблюдателя и положение персонажей в изображаемом окружении, а положение изображенного наблюдателя характеризуется визуальной дистанцией.
По словам Лессинга, образы «могут находиться один подле другого в чрезвычайном количестве и разнообразии, не покрываясь взаимно и не вредя друг другу, чего не может быть с реальными вещами или даже с их материальными воспроизведениями» [Лессинг 1957, 271]. Зримую реальность в литературе чаще всего называют словесной пластикой. Так, В.Е. Хализев связывает изобразительность, художественную предметность и словесное творчество в определении художественного мира: «Мир включает в себя, далее, то, что правомерно назвать компонентами изобразительности» [Хализев 2004, 432].
На сегодняшний день важным шагом в изучении художественного мира литературного произведения является определение в словаре «Поэтика», представленное С.П. Лавлинским и Н.М. Гурович. Здесь визуальное в литературе понимается как «одно из наиболее значимых свойств художественной образности, определяемое авторской установкой как на отдельные зрительные ассоциации читателя, так и на конкретизацию “предметновидовых” уровней (Р. Ингарден) “внутреннего мира” произведения в целом» [Лавлинский, Гурович 2008, 37]. Отличительные черты визуального в литературе от этого феномена в прочих видах искусства заключаются в словесном обозначении визуального образа, который осуществляется в рецептивном акте читательского воображения. Одна из важных проблем, на которую указывают С.П. Лавлинский и Н.М. Гурович в словарном определении - это инструментарий интерпретации нарративных механизмов, создающих оптику «четкой зримости». Бесспорно, что «чем более конкретно-материальным оказывается описание предмета, тем отчетливее складывается В. представление о нем» [Лавлинский, Гурович 2008, 38]. Но особенно важным в таком наблюдении мы находим то, что визуальное представление предмета складывается в воображении читателя как постепенное проявление скрытого - потенциально живущего в слове - предмета.
Исследования, которые ставят проблему визуального в рамках творчества отдельных писателей, еще раз свидетельствуют об актуальности данной проблемы, но не дают полного представления о том, что такое визуальное как проблема художественной литературы. Например, А.Ю. Ивлева в диссертации «Визуализация художественной картины мира в творчестве Оскара Уайльда» [Ивлева 2002] наряду с термином «визуализация» употребляет словосочетание «визуальные средства», под которыми понимает рисунок, форму, пластику Термин «визуализация» имеет в ее работе очень широкое значение. Более актуальной для нас оказывается работа Е.Л. Суз-рюковой «Суженное поле видения в художественной прозе А. П. Чехова», которая, ссылаясь на А.П. Чудакова, Б.В. Томашевского, В. Подорогу и др., рассматривает комплекс факторов, свидетельствующих о сужении зоны видения персонажа. Во-первых, автор этого исследования исходит из понимания пространственной организации как элемента художественной реальности, посредством которого воплощается визуальное в литературе. Однако нельзя не отметить, что визуальное - не синоним художественного пространства или даже всего хронотопа, хотя тесно связано с ним. Во-вторых, Е.Л. Сузрюкова указывает на соотношение понятия визуального с состоянием наблюдателя: «Реализация поля видения осуществляется в пространственной сфере, поэтому, говоря о его сужении, мы прежде всего должны обратиться к пространству закрытого типа, само устроение которого предполагает ограничение поля зрения. <...> Важным фактором при этом являются не только внешние условия среды, но и внутреннее состояние самого наблюдателя» [Сузрюкова 2009, 42]. Под реальным планом осуществления поля видения автор понимает художественный мир, который реален и для героя, и для погружающегося в него читателя, но реален по-разному.
Сложность предмета нашего исследования продиктована свойством художественной литературы как многоплановым искусством. Мощный процесс синтеза литературы и кинематографа породил тенденцию исследовать и кинематографичность текста. Законы литературной образности и средства художественной изобразительности в произведении принято соотносить с законами киноязыка и кинематографическими приемами: для художественной литературы характерен прием удаления или приближения действующего лица, т.е. изображение разными планами, от общего до укрупнения мельчайших деталей, подобно тому как в кинематографе используют крупный план. Монография И.А. Мартьяновой дает следующее определение литературной кинематографичности: «.. .Это характеристика текста с монтажной техникой композиции, в котором различными, но прежде всего композиционно-синтаксическими средствами изображается динамическая ситуация наблюдения» [Мартьянова 2002, 105].
Термин «литературная кинематографичность» часто отождествляют со зримостью литературы, но применяется он в отношении текстов с монтажной техникой композиции. Отметим, что И.А. Мартьянову прежде всего интересует синтаксис современной литературы, нас же - визуальное не как техника композиции текста, а как особое свойство художественного мира литературного произведения.
Свойственное искусству преобразование действительности происходит благодаря «зрелищному» характеру художественного образа. Е- Г. Га-
дамер указывает на совершенно органичный для человека факт языкового процесса: «пребывание “внутри слова”, когда на него уже не смотрят как на предмет, есть, безусловно, основной модус всякого языкового процесса» [Гадамер 1991, 37]. Для эстетически полноценной рецепции читателю всегда необходимы определенные усилия воображения, что обусловлено самой спецификой словесного образа. Визуальное в литературе понимается в этой статье не как физическая доступность зрению слов-знаков и их композиция, а как именно то, что явлено внутреннему зрению (воображению) читателя в акте рецептивной «конкретизации» (Р. Ингарден) изображенного художественного мира.
Рецептивный характер слова в литературе определяется соотношением изображаемого предмета и его «вида», как переход от знаковой природы к образной. Иначе говоря, показывание смысла обусловлено такими этапами:
-
1) в воображении читателя конкретизируется художественный мир, как последовательное развертывание сменяющих друг друга кадров (деталей);
-
2) соотнесение возникающих в воображении деталей побуждает следующую стадию - интерпретацию. Причем, при всяком обращении к прояснению одной области, для читателя непременно остается закрытой другая. Укажем здесь на справедливую мысль Г,- Г. Гадамера: «То, что вот так всходит и вот так укрывается, в своем напряжении как раз и составляет облик творения» [Гадамер 1991, 120]. Этому замечанию близка мысль Р. Ингардена о «сверкающих» и «гаснущих» видах.
-
3) в отличие от остальных слоев «виды» не образуют непрерывного целого, а возникают и укрываются: «Они возникают скорее временами, как бы сверкают в течение одного мгновения и гаснут, когда читатель переходит к следующей фазе произведения. Они актуализируются читателем в процессе чтения. В самом же произведении они пребывают как бы «наготове», в некоем потенциальном состоянии» [Ингарден 1962, 29]. Здесь мы считаем важным говорить о динамической природе художественного образа: «Присущие изображаемым предметам виды появляются в конкретизации последовательно и обладают большей или меньшей продолжительностью» [Ингарден 1962, 88]. Такая динамика и отвечает за процесс показывания смысла.
Положение визуального в литературе между реальностью текста и реальностью самого читателя побуждает нас привести мысль В. Изера: «Литературное произведение появляется, когда происходит совмещение текста и воображения читателя, и невозможно указать точку, где происходит это совмещение» [Изер 2004, 203]. Проблема понимания такого процесса - герменевтическая проблема, поскольку за пределами языка лежит образ, обретающий свое бытие во времени и сознании, но одновременно он остается и пребывает в материальном пространстве языка. В монографии Л.Ю. Фуксона справедливо указано: «Во время чтения происходит превращение слова в образ, событие перехода из семиотической плоскости текста в эстетическую реальность, называемую художественным миром. Такой переход требует усилия воображения» [Фуксой 2007, 223]. Так, под способом осуществления визуального в литературе мы будем понимать событие встречи изображенного мира с читателем и не столько в текстовой реальности произведения, сколько по ту сторону осязаемой предметности в сфере читательского воображения.
Обретение художественным миром своего визуального облика складывается из опоры на представление пред-стоящих читателю образов и актуализации потенциальных видов, конкретизируемых в воображении. Конкретизация - результат взаимодействия «произведения и читателя, в особенности творческой, воссоздающей деятельности последнего, которая проявляется в процессе чтения» [Ингарден 1962, 90]. В каждом случае конкретизация произведения осуществляется в момент созерцания эстетического объекта.
Итак, Р. Ингарден отмечает, что в процессе конкретизации создается эстетическая ценность, «которая в самом произведении лишь обозначена его компонентами» [Ингарден 1962, 81]. Следовательно, конкретизация выступает не только как пассивное восприятие, но и как со-творение. Подход Р. Ингардена соотносится с требованиями феноменологии, согласно которым художественное произведение не может существовать вне восприятия, а его бытие обусловлено конституирующей деятельностью читательского сознания.
Впервые ученый обращается к точкам неопределенности в работе “Das literarische Kunstwerk: Mit einem Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel” [Ingarden 2012], в седьмой главе (“Die Schicht der dargestellten Gegenstandlichkeiten”), посвященной анализу слоев представленных читательскому вниманию предметов.
Важно понимать, что «схематичность» не означает всестороннюю определенность (однозначность) образов в произведении. Если бы все компоненты имели всестороннюю определенность, то не было бы и потенциалов как «мест неполной определенности». Как раз естественной является невозможность дать исчерпывающее определение всех компонентов произведения, иначе «получилось бы нечто выходящее за пределы возможностей эстетического восприятия произведений искусства, а в некоторых случаях (например, лирика) даже препятствующее достижению специфического художественного результата. Дело в том, что эстетическое восприятие произведений искусства вообще, а произведений художественной литературы в некоторых их аспектах может быть в еще большей степени ограничено по своей природе и вследствие этого всегда в какой-то мере односторонне. Даже если читатель сознательно стремится охватить как можно шире произведение искусства» [Ингарден 1962, 56-57]. Рассмотрим несколько примеров, в которых места неполной определенности способствуют вовлечению читательского воображения в актуализацию потенциальных компонентов.
Рассказ А.П. Чехова «Супруга» начинается с прямой речи героя. Мы
узнаем только его имя и описанное рассказчиком поведение: герой мелочен, подозрителен, угадывает и разбирается в уликах. Сам себя герой определяет следующим образом: «сын деревенского попа, бурсак по воспитанию, прямой, грубый человек, по профессии хирург» [Чехов 1974-1983, IX, 83]. Со слов рассказчика есть еще уточнение: «Лучшие годы жизни протекли, как в аду, надежды на счастье разбиты и осмеяны, здоровья нет, в комнатах его пошлая кокоточная обстановка» [Чехов 1974-1983, IX, 79]. Читатель видит здесь только силуэт героя, а детали его внешности неизвестны. Такое отсутствие внешних черт является «местом неполной определенности» в терминологии Р. Ингардена. Аналогичная ситуация в этом рассказе с изображением внешности его супруги Ольги Дмитриевны: кружева, длинные душистые волосы, истерики, визг, попреки, угрозы, ложь, зеркало, бонбоньерки, неизвестно кем подаренные ландыши.
Причиной этого является дистанция не только буквально-пространственная (жена часто отсутствует дома), а дистанция в отношениях между героями. Описание Ольги Дмитриевны дается здесь глазами мужа, который ее не понимает. С позиции рассказчика мы встречаем оценочное высказывание как в отношении матери Ольги Дмитриевны: «если бы дочь душила человека, то мать не сказала бы ей ни слова и только заслонила бы ее своим подолом» [Чехов 1974-1983, IX, 82]. Но ее визуальный облик отсутствует.
Появляется оценка героини и глазами другого персонажа: любовник Michel Рис отмечает в ее внешности маленькую ножку. В письме Риса муж обнаруживает (переводит с английского, пользуясь словарем) эту деталь внешности: «Пью здоровье моей дорогой возлюбленной, тысячу раз целую маленькую ножку. Нетерпеливо жду приезда» [Чехов 1974-1983, IX, 79]. Конечно, появление этой детали - проявление условного языка двух любовников, поэтому неслучайно Николаю Евграфовичу для доступа к взгляду Риса на эту женщину требуется англо-русский словарь.
Важно здесь то, что взгляд мужа дает читателю портрет женщины в общих чертах, а взгляд любовника - высвечивает новую подробность. Это результат разной визуальной оценивающей дистанции в отношениях между героями, которая несводима к пространственной. Глаза мужа и любовника видят в одной героине разные подробности, разница в отношениях создает и разницу зримых подробностей. О внешности самого Риса сказано только, что это молодой человек лет 23-х, что вновь указывает нам на представленный издалека взгляд Николая Евграфовича на Риса, т.е. с отчужденным непониманием.
В конце рассказа есть описание фотографии всей семьи. В этом описании, которое дается рассказчиком, смешаны описания наружности и прямо-оценочные характеристики: Тесть - бритый, пухлый, водяночный тайный советник, хитрый и жадный до денег. Теща - полная дама с мелкими и хищными чертами, как у хорька, безумно любящая свою дочь. Перед читателем только общие контуры, большинство внешних признаков так и остается в зоне неопределенности.
В этом отношении хорошо известен пример самого Р. Ингардена: «Не зная, например (поскольку это не обозначено в тексте), какого цвета глаза у Баськи из “Пана Володыевского”, мы представляем ее себе, допустим, голубоглазой. Подобным же образом мы дополняем и другие, не определенные в тексте, особенности черт ее лица, так что представляем ее себе в том или ином конкретном облике, хотя в произведении этот облик дан не с исчерпывающей определенностью» [Ингарден 1962, 82].
К примеру, в рассказе Ильфа и Петрова «Весельчак» внешность героя по имени Никанор Павлович представлена так: «За мной стоял рыжеусый человек с оловянными глазами, в драповом пальто, каракулевой шляпе с лентой и больших хозяйственных калошах» [Ильф, Петров 1961, 324]. Здесь большинство деталей внешности составляют вещи: пальто, шляпа, калоши, лента. Рыжие усы и «оловянные» глаза представляют собой скорее маску, чем реальное лицо человека. Такая стратегия изображения вызвана сатирической установкой рассказа, которая вскрывает пустоту под маской «весельчака». Перед нами тот случай, когда отсутствие остальных подробностей в портрете героя визуально способствуют воплощению сатирического смысла.
Р. Ингарден различает два типа точек неопределенности: 1) те, которые могут быть сняты, т.к. текст имеет некоторую детализацию; 2) точки неопределенности, которые устранить нельзя, т.к. текст не содержит по ним никаких разъяснений. Поскольку точки неопределенности составляют часть творческого замысла (например, воплощение сатирической установки), то их не всегда можно устранять. Анализируя смерть Тристана, Р. Ингарден сам соглашается с тем, что какие-либо детали (наир., как пришла смерть - медленно или скоропостижно) были бы избыточны для художественной репрезентации произведения. Напротив, отсутствие подробностей и делает произведение столь трагическим.
Мы понимаем, что невыражение (визуальные лакуны) используется как обязательный элемент структуры литературного произведения, в отличие от живописи. Буквально речь идет о том, что места неполной определенности можно обнаружить в любой части текста, которая препятствует прояснению какого-либо свойства человека, предмета или обстоятельств (положение дел): «Eine Unbestimmtheitsstelle ist uberall dort aufzufinden (выделено нами - A.A.), wo man eine Eigenschaft einer Person, eines Gegenstandes oder einer Sachlage nicht feststellen kann, da sie im Text nicht genannt wird» [Ingarden 1968, 49]. Это важно отметить, поскольку художественный мир сам, по своей природе скрывает некоторые подробности, т.е. имеет вневизуальные части, которые auf-zu-finden - находятся в потенциале (не дают себя обнаружить) и на текущий момент укрываются.
Поэтому бытие эстетического объекта множественно: с одной стороны, в силу точек неопределенности, а с другой - в силу конкретизации. Читатель актуализирует потенциальные компоненты, представляя себе предметы в таких ситуациях и аспектах, которые обозначены в произведении. По словам Р. Ингардена в процессе конкретизации происходит «акту-

ализация, по крайней мере некоторых из тех компонентов произведения, которые в нем самом пребывают лишь в потенциальном состоянии» [Ин-гарден 1962, 77]. Так, актуализация - это конкретизирующее устранение точек неопределенности в ходе чтения.
Как мы видим, некоторые случаи редукции визуального в литературе являются необходимым условием осуществления смысла. Это красноречивая и необходимая характеристика художественного мира, как тишина для восприятия звука, темнота для восприятия света. Другое дело, что в различных модусах художественности вполне возможна разная пропорция того и другого, что связано с двояким сочетанием в произведении мира и человека: изнутри его и извне, на которое указывает М.М. Бахтин: «Возможно двоякое сочетание мира с человеком: изнутри его - как его кругозор, и извне, как его окружение» [Бахтин 2003, 173]. Степень подробности визуальной конкретизации, те. преобладание или сокращение случаев визуального устранения зависит от интенции самого произведения и его ценностных отношений, зрительно воплощенных.
Список литературы Рецептивные аспекты визуального в литературе
- Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 69-263.
- Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
- Ивлева А.Ю. Визуализация художественной картины мира в творчестве Оскара Уайльда: дис. ... к. филос. н.: 24.00.01. Саранск, 2002.
- Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход // Современная литературная теория: антология / сост. И.В. Кабанова. М., 2004. С. 221-224.
- Ильф И., Петров Е. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. Рассказы, очерки, фельетоны. М., 1961.
- Ингарден Р. Исследования по эстетике / пер. с польского А. Ермилова и Б. Федорова. М., 1962.
- Лавлинский С.П., Гурович Н.М. Визуальное в литературе // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 37-39.
- Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957.
- Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973.
- Мартьянова И.А. Киновек русского текста: парадокс литературной кине-матографичности. СПб., 2002.
- Сузрюкова Е.Л. Суженное поле видения в художественной прозе А.П. Чехова // Сибирский филологический журнал. 2009. № 3. С. 42-46.
- Фуксон Л.Ю. Чтение. Кемерово, 2007.
- Хализев В. Е. Теория литературы. 4-е изд., испр. и доп. М., 2004.
- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М., 1974-1983.
- Ямпольский М.Б. Видимый мир: очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993.
- Ямпольский М.Б. О близком: очерки неметрического зрения. М., 2001.
- Ingarden R. Die Schicht der dargestellten Gegenständlichkeiten // Ingarden R. Das literarische Kunstwerk: Mit einem Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel. Berlin, 2012. S. 229-270. DOI: https://doi. org/10.1515/9783110938487.229
- Ingarden R. Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks. Darmstadt, 1968.