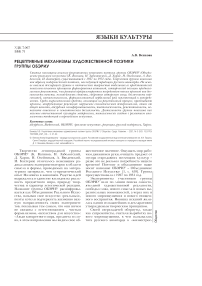Рецептивные механизмы художественной поэтики группы Обэриу
Автор: Венкова Алина Владимировна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Языки культуры
Статья в выпуске: 3 (60), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу рецептивных установок поэтики группы ОБЭРИУ (Объединение реального искусства: (К. Вагинов, Н. Заболотский, Д. Хармс, Н. Олейников, А. Введенский, И. Бахтерев), существовавшей с 1927 по 1931 годы. Творчество группы показано как образец модернистской поэтики, наследующей традиции русского авангарда. На основе анализа деклараций группы и поэтического творчества отдельных ее представителей показаны основные принципы формирования активной, сотворческой позиции предполагаемого реципиента, чьи реакции программируются посредством таких приемов как бессвязность текста, нелинейность сюжета, сокрытие авторского лица, безличность персонажей, антипсихологизм, формализованный вербальный ряд, тяготеющий к конкретности. Среди выразительных средств, влияющих на рецептивный процесс, преобладают приемы, затрудняющие рецепцию: нарушение семантического детерминизма, отказ от общей памяти, абсурдная неинформативность, тавтологичность, репетитивность, неполнота описания и семантическая бессвязность. Деятельность группы показана как явление отечественной культуры модернизма, типологически сходное с развитием аналогичных тенденций в европейском искусстве.
Абсурдизм, введенский, обэриу, "реальное искусство", рецепция, русский модернизм, хармс
Короткий адрес: https://sciup.org/140261725
IDR: 140261725 | УДК: 7.067
Текст научной статьи Рецептивные механизмы художественной поэтики группы Обэриу
Творчество ленинградской группы ОБЭРИУ (К. Вагинов, Н. Заболотский, Д. Хармс, Н. Олейников, А. Введенский, И. Бахтерев) отличалось неменьшим радикализмом экспериментаторов в области смысла и формы, проводимых на литературном материале, чем супрематический опыт Малевича в живописи. Родство идей выражалось в единстве взглядов на реальность предметного мира, природу творчества и характер эстетической реакции. Название группы ОБЭРИУ расшифровывается как Объединение Реального Искусства, называя свое искусство «реальным», поэты хотели подчеркнуть жизненно важную направленность своих экспериментов, показывая тем самым, что они ничем не связаны с эстетствованием , чистым формализмом, «искусством для искусства»: «Люди конкретного мира, предмета и слова, в этом направлении мы видим свое об- щественное значение. Ощущать мир рабочим движением руки, очищать предмет от мусора стародавних истлевших культур – разве это не реальная потребность нашего времени? Поэтому и объединение наше носит название ОБЭРИУ – Объединение Реального Искусства» [1, c. 459]. Группа просуществовала с 1927 по 1931 год.
Эксперименты участников группы ОБЭРИУ шли по линии поиска самостоятельной художественной реальности, свободы слова, нового смысла и новых выразительных возможностей, а через них и нового мироощущения и нового очищенного восприятия. Новизна исканий являлась одним из важнейших и декларативно утверждаемым творческим принципом.
Своей сверхзадачей обэриуты, также как супрематисты, считали выработку нового мироощущения, в чем сказывалась тяга русского авангарда к «жизнестрое-
Общество
нию». «Мы творцы не только нового поэтического языка, но и создатели нового ощущения жизни и ее предметов. Наша воля к творчеству универсальна: она пе- рехлестывает все виды искусства и врывается в жизнь, охватывая ее со всех сторон» [1, c. 456].
Декларация (опубликована в «Афишах Ленинградского Дома печати» (1923, № 2, с. 11–12) – плод коллективной работы обэриутов, состоит из нескольких разделов (общественное лицо Обэриу, поэзия обэриутов , «на путях к новому кино», театр Обэриу) и носит, что характерно для большинства авангардистских программных выступлений, открытый оборонительно-наступательный полемический характер. Здесь можно найти большинство положений, которыми были отмечены декларации художников-абстракционистов. Среди них первостепенное значение имеет провозглашенный Хармсом поиск
«мысли предметного мира», «реального» существования предмета, очищенного от приписываемых ему значений и смыслов: «Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства. В поэзии – столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с точностью механики. Вы как будто начинаете возражать, что это не тот предмет, который вы видите в жизни. Подойдите поближе и потрогайте его пальцами. Посмотрите на предмет голыми глазами и вы впервые увидите его очищенным от ветхой литературной позолоты» [1, c. 458].
На практике это «столкновение словесных символов» оборачивалось пренебрежением привычной логикой, алогизмом диалогов и сцен, «видимостью» бессмыс-
Общество. Среда. Развитие № 3’2021
лицы, на чем настаивали сами поэты, полагая, что истинной бессмыслицей будет заумное слово, от которого демонстративно открещивались «разорванностью» повествования, нелинейной формой построения сюжета, игрой словами и смыслами, что позволяет определить творчество обэ-риутов как отечественный вариант поэтики абсурда. Приведенная выше цитата содержит в зародыше программу эстетической реакции. Читателю предлагается отбросить весь свой предшествующий литературный опыт и взглянуть на мир реальный и мир поэтический «голыми глазами» и «впервые» увидеть как «мир, замусоленный языками множества глупцов, запутанный в тину “переживаний” и “эмоций” [отметим попутно декларируемый с порога антипсихологизм, роднящий обэриу- тов с художниками-абстракционистами – А.В.], – ныне возрождается во всей чистоте своих мужественных форм» [1, c. 457].
Как видно, проект обэриутов в отношении читательского восприятия отличается отмеченным у К. Малевича и его последователей стремлением очистить восприятие, лишить его автоматизации, последствиями которой являются: привыкание, атрофия воспринимающих способностей, стандартизация и унификация приемов передачи и воспроизводства смысла. Одним словом, сдвинуть эстетическую реакцию с накатанных рельсов, создать для читателя проблемную ситуацию, рецептивный затор, с целью стимулировать его со-творческую активность, – вот что является основной задачей поэзии и прозы обэриу-тов и ее связи с фигурой читателя. «Поэзия не манная каша, которую глотают не жуя и о которой тотчас забывают» [1, c. 458].
А. Введенский, как писали о нем обэ-риуты, «крайне левая нашего объединения», предстает как художник «крайней» радикальной направленности, отмеченный, как и Малевич, предельным максимализмом, не останавливающийся на полпути, стремящийся, исчерпав все возможности, обозначить в своем творческом эксперименте границу, за которую искусство перейти не может. Рассмотрев одну из самых радикальных поэм А. Введенского «Священный полет цветов» (1931 г., другое название «Кругом возможно бог»), можно проследить, какими средствами через организацию ткани художественного произведения обэриуты решали поставленную перед собой задачу пробуждения читательской активности, каким образом автор «программирует» читательскую реакцию, создавая внутри литературного текста своеобразный «потенциал восприятия», определяя, тем самым, характер художественной коммуникации.
Как уже отмечалось выше, поэтика группы ОБЭРИУ тяготеет к абсурдизму, который является одним из самых трудных для восприятия литературных направлений (в этом ряду можно назвать также сюрреализм и конкретную поэзию). Трудность прочтения литературного текста является условием и оправданием «эффективности воздействия» абсурдистского произведения. Поэма Введенского в этом смысле не является исключением.
Провоцирование читательской активности производится с помощью некоторых художественных приемов, создающих трудности прочтения. Одним из самых мощных по степени воздействия вырази- тельных средств, является нарушение линейности повествования. «Язык становится линейным – пишет Р. Арнхейм, – только когда (...) он служит средством передачи информации о том, что происходит во внешнем мире, например, когда рассказывается какая-то история (курсив мой – А.В.) или когда язык сообщает информацию о событии из мира мыслей (например, когда с его помощью воспроизводится логическое рассуждение)» [2, c. 108]. В поэме А. Введенского читатель сталкивается с нарушением линейности, демонстративным нежеланием рассказать историю, что влечет за собой распад, (вплоть до полной остановки), сюжета, нарушение логики повествования, причинно-следственных связей между частями или абсурдное несоответствие посылок и следствий. Поэма делится на восемь частей, из которых только первые две каким-то образом соединены нитью единого повествования, каждая последующая часть представляет собой эпизод, никак не связанный с остальными. Единственным связующим звеном является «главное действующее лицо» появляющееся в начале как Эф, позднее превращающийся в Фомина («Эф» – звучание первой буквы фамилии), о котором только к середине поэмы можно узнать, что он царь, да еще «сумасшедший царь» Фомин.
Однако Фомина, как и всех прочих участников «действия», нельзя считать в полном смысле слова персонажами, поскольку, во-первых, они полностью лишены индивидуальности, авторских или взаимных характеристик и, как справедливо пишет Ж.-Ф. Жаккар, «образуются из слов, которые они произносят», во-вторых, эти мнимые персонажи совершенно не заняты в действии, иначе говоря, не являются действующими лицами, поскольку не совершают на протяжении всей поэмы никаких «действий». Так происходит смерть наиболее прочно связанной с читателем инстанции – персонажа, что приводит к невозможности идентификации ни с одним из литературных «героев». Бездействие персонажей абсурдистских драм зачастую оборачивается их полной неподвижностью, парализованностью. Примером могут служить пьесы Беккета: «О, счастливые дни», героиня которой произносит все свои монологи, будучи по горло зарытой в песок; «Игра», персонажи которой, мужчина и две женщины, на протяжении всей пьесы заключены в кремационные урны. В «Разговоре о непосредственном продолжении» из «Некоторого количества разговоров» А. Введенского «три человека»
собираются покончить жизнь самоубийством, при этом не трогаются с места, что постоянно подчеркивается многократно повторяемой ремаркой «Они сидели на крыше в полном покое » [3, c. 379].
Еще одним приемом, приводящим к нарушению линейности, являются разнообразные операции со временем внутри ткани текста. Время также теряет свое линейное течение, искривляясь, растягиваясь, сжимаясь или возвращаясь вспять. «Вневременная координация частей усиливается за счет повторов и чередований – двух излюбленных механизмов конкретной поэзии, доводящих ахронию до своего экстрема» [2, c. 110]. Наличие большого количества повторов (примером может служить четырехкратное повторение ремарки «вбегает мертвый господин», перемежающее речь Венеры, в одной из частей поэмы [3, c. 349] приводит к остановке времени, а чередований – к его «пробуксовыванию». Подобная создаваемая автором ахрония повествования сказывается в том, что персонажи абсурдистских произведений никогда не могут определить время, в которое происходят те или иные события (на вопрос Женщины, обращенный к Фомину «Давно ты так стоишь?», он отвечает: «Не помню. Дней пять или семь. Я счет потерял» [3, c. 349].
Помимо разрушения линейности повествования, приемом, затрудняющим восприятие, является нарушение «постулатов нормальной коммуникации», как внутри литературного текста, между «героями», так и между автором и читателем. Ж.-Ф. Жаккар, опираясь на публикацию О. Ревзиной и И. Ревзина [4], называет следующие постулаты нормальной коммуникации: постулат о детерминизме («Для осуществления коммуникации необходимо, чтобы собеседники имели примерно одинаковую концепцию реальности и чтобы выбор слова одним пробуждал у другого приблизительно те же представления. Это происходит от того, что существует некоторый детерминизм, который требует, чтобы каждое следствие исходило из точной и определенной причины») [5, с. 213], об общей памяти («Для коммуникации необходимо, чтобы существовало, по крайней мере, некоторое число общих элементов в памяти каждого собеседника») [5, с. 221], об информативности («...постулат, который предполагает, что каждое высказывание несет новую информацию...») [5, с. 223], постулат тождества («...постулат тождества требует, чтобы собеседники представляли себе одну и ту же реальность, то есть что-
Общество
бы слово, или означающее, относилось бы к одному и тому же предмету, или означаемому...») [5, с. 224], истинности («...постулат истинности (...) требует, чтобы сообщаемое соответствовало той действительности, которую оно описывает») [5, с. 224], постулат о неполноте описания («...постулат о неполноте описания, требует, чтобы то, что известно лицу, к которому обращаются, не повторялось») [5, с. 225] и о семантической связности («Законы языка предполагают семантические ограничения, это значит, что какое бы то ни было слово (или группа слов) не может сочетаться с любым другим словом (или группой слов), даже при правильной грамматической структуре») [5, с. 226]. Соблюдение всех этих постулатов является условием успешного прохождения акта коммуникации. В рассматриваемой поэме можно обнаружить нарушение практически всех перечисленных постулатов.
Так, постулат о детерминизме оказывается нарушенным в диалоге между Фоминым и Нищим, в котором первый, являясь как мы помним «сумасшедшим царем», задает второму изначально не имеющий смысла вопрос «Ты фонарь?» и получает столь же абсурдный ответ: «Нет, я голодаю» [3, c. 345]. Нарушение постулата об информативности, которое происходит при употреблении избитых фраз, говорении очевидных вещей, иногда искаженных,
Общество. Среда. Развитие № 3’2021
повторении, тавтологии, распадении речи на составные части, иногда только звуки, происходит в уже упоминавшейся сцене с монологом Венеры, четырежды прерываемой ремаркой «вбегает мертвый господин» (пример с повторением), пример тавтологии представляют собой многочисленные фразы в изобилии рассыпаемые «персонажами», как например: «Смерть – это смерти еж» [3, c. 352], «Кто скажет “здравствуй” ручке каюты? Кто скажет “спасибо штанам и комоду? Ты дохлая рыба, иди в свою воду» [3, c. 344] и др. Последний пример может также иллюстрировать нарушение постулата о семантической связности, что происходит и в следующем четверостишии: «Вдруг видит Фомин дом, это здание козла, но полагает в расчете седом, что это тарелка добра и зла» [3, c. 344].
Подобное отсутствие нормальной коммуникации между участниками «повествования» создает и «коммуникативную неопределенность», по терминологии немецкой рецептивной эстетики и для читателя, побуждающую его к заполнению «пустых мест» самостоятельно формируемыми смыслами.
Нарушение постулатов нормальной коммуникации имеет еще и другую сторону: распад коммуникации ставит под сомнение пригодность ее инструмента – языка, а поскольку язык, как можно увидеть из текста Д. Хармса «Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом» (1927), оказавшего, по признанию самих обэриутов, значительное воздействие на их поэтику, не связывается с познанием («рабочими значениями» предмета), а обладает онтологическим статусом «пятого значения», то распад языка тождественен распаду реальности: «Это дисквалификация человеческой речи – не только игра слов, но экзистенциональная проблема, так как происходит дисквалификация реальности» [5, 228].
Экзистенциональное сомнение, лежащее в основе европейского театра абсурда безусловно затрагивает и творчество русских абсурдистов – обэриутов. Возникающая в связи с этим тема смерти, является ведущей и основной для творчества автора «Священного полета цветов» А. Введенского: «Какая может быть другая тема, чем смерти вечная система?» – вопрошает один из «персонажей» поэмы. Недоверие к видимому миру, с господствующими в нем непостижимыми логикой иррациональными законами, страх перед ними – внутренний нерв всей абсурдистской патетики. Экзистенциональное сомнение, мысль о взаимозаменяемости жизни и смерти приводят к «дисквалификации мира видимостей и отвержению их стереотипных моделей рационализации вместе с их логическими связями» [5, c. 214], что является своеобразным онтологическим оправданием абсурда.
Ощущение агрессивности мира автором, оборачивается жестокостью по отношению к читателю, цель которой – произвести катарсический эффект: через шок (рецептивный и эстетический), страдание (сочувствие персонажу и «муки чтения») – к очищению сознания от дискредитировавших себя стереотипных моделей рационализации, а восприятия – от автоматизации и стандартизации.
Именно поэтому автор “Священного полета цветов» жесток, как к своим героям, так и к читателю. А. Введенский всячески старается «снять», своеобразным психотерапевтическим литературным приемом, влияние на сознание общепринятых, но лишенных смысла понятий о действительности, разрушить иллюзии – обманки, показать бессмысленность клишированных оборотов речи. Жестокость, даже некото- рая грубость, как прием, – визитная карточка творческой манеры поэта. Речь «героев» как будто специально организована так, чтобы шокировать читателя: «... ты думаешь дева беспечна, что все кисельно и мелочно? Нет, дева дорогая нет, жизнь это не то, и ты окончишь путь, рыгая, как пальмы и лото» [3, c. 353].
Широко пародируются общие места обывательской речи, разговорные штампы, избитые т.н. «пикантные» шутки: «И ваши пышные штанишки я принимаю за крыло, и ваши речи – это книжки писателя Анатоля Франса. Я в вас. влюблен» [3, c. 348], другой пример: «Серг. Фадеев.: “Нина Картиновна, что это ртуть?” Нина Картин.: “Нет, это моя грудь.” Серг. Фадеев.: “Скажите, прямо как выта, вы пушка”. Нина Картин.: “Виновата, а что у вас в штанах?” Серг. Фадеев.: “Хлопушка” (Все смеются)» [3, c. 342]. Введенский также не терпит никакой патетики, которая, по его мнению, зачастую чревата неискренностью и фарисейством (примером пародирования патетической речи может служить монолог Носова «Важнее всех искусств, я полагаю музыкальное» [3, c. 342].
Подобная грубость поэтического языка преследует, как уже было сказано, катарсический, очищающий эффект, это своеобразная прививка против того, что «тенденцией всякого общества становится стандартизация» (Жаккар), а с ней и автоматизация восприятия.
Эффективным приемом борьбы против автоматизации восприятия, все в том же катарсическом ключе «очищения подобных аффектов» через их переживание, является введение в ткань литературного повествования автоматизированных моделей восприятия, призванных своей ритмикой и строем производить эффект физического воздействия на чувства, минуя сознание. Примером такой автоматизированной модели может служить «Беседа часов»: «Первый час говорит второму: я пустынник. Второй час говорит третьему: я пучина. Третий час говорит четвертому: одень утро. Четвертый час говорит пятому: обегают звезды. Пятый час говорит шестому: мы опоздали» [3, c. 342] и так до прохождения всех часов в сутках, заканчивая тем, что «одиннадцатый час говорит двенадцатому: и все же до нас не добраться уму» (курсив мой – А.В.). «Здесь уже происходит не процесс думания в интеллектуальном смысле этого слова, а скорее временное прекращение этого процесса» (курсив мой – А.В.). «Размышление здесь рассматривается перцептуально, как если бы это была игра грозовых туч или поднимающаяся стая птиц» [2, c. 112–113]. Введение таких автоматизированных ритмических конструкций производит эффект обратной автоматизации – активизацию и концентрацию внимания на процессе восприятия, так как этим достигается его почти «физическое переживание» (на этом эффекте построено «Представление для чтения» И. Бахтерева «Царь Македон, или Феня и чеболвеки»).
Центральной точкой схождения всех разрозненных «перспектив текста» является «главная» речь Фомина «Господа, господа, ...», а также перекликающийся с ним монолог Женщины «Женщина спит...», в котором, как и в финальном «безличном» заключении, обрисовывается картина мира, являющаяся результатом развития абсурдной логики всей поэмы. В речи Фомина находят свое отражение экзистенциональная и гносеологическая неуверенность и, как следствие, – ощущение иррациональности, враждебности окружающего мира. В очередной раз, подчеркивается несостоятельность логических операций, а вместе с ними и любых попыток установить причинно-следственные связи, беспомощность языка, его неспособность описать мир, что приводит к «смерти смыслов», к бессмыслице.
Речь Фомина является своеобразной поэтической иллюстрацией идей, разработанных Хармсом в его трактате «Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом». Введенский также старается показать несостоятельность понятий, с помощью которых человеческий разум стремится упорядочить явления окружающего мира («рабочих значений» предметов), демонстрируя ценность лишь «мысли предметного мира»: «Если создан стул, то зачем?» – Спрашивает Фомин, – «Затем, что я на нем сижу и мясо ем» – иронично отвечает он сам себе и тон его речи напоминает рассуждения Малевича о «харчевых выгодах», которые стремится устроить себе человек с помощью разума. «Господа, господа, – укоризненно продолжает Фомин – а вот перед вами течет вода, она рисует сама по себе » (курсив мой – А.В. ) [3, c. 358]. Стремление приблизиться к «мысли предметного мира», «реальному» бытию предмета через свободу слова, очищенного от «житейской» логики, являлось своеобразным открыто декларируемым эстетическим кредо всех обэриутов.
Однако свобода, возвращенная словам, которые больше не связаны законами логики, правилами речи, не прикреплены к
Общество
Общество. Среда. Развитие № 3’2021
Поэма Введенского, таким образом, это эксперимент, доведенный до конца, стремление дойти до границы возможного, что являлось основой его творческой индивидуальности.
Образ автора, заключенный в тексте, отличается намеренной жестокостью, даже грубостью по отношению к читателю, что делается в расчете на ответную реакцию, сопротивление и противодействие с его стороны. Авторское отношение к эстетической реакции можно определить как стратегию провоцирования активности, ответного рецептивного действия. Налицо намеренное желание шокировать, создать рецептивный затор, тем самым – разрушить традиционные автоматизированные модели восприятия, заставить читателя активно работать над поиском смысла. Читателю предоставлена самостоятельность. Автор намеренно отдаляется от него, образ автора может быть охарактеризован, как «энигматический», скрытый, не проявляющийся в тексте ( читатель в поэме лишен даже возможности распоз-
Список литературы Рецептивные механизмы художественной поэтики группы Обэриу
- ОБЭРИУ (Декларация) // Ванна Архимеда. - Л.: Художественная литература, 1991. - 496 с.
- Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. - М.: Прометей, 1994. - 352 с.
- Ванна Архимеда. - Л.: Художественная литература, 1991. - 496 с.
- Ревзина О., Ревзин И. Семиотический эксперимент на сцене. Нарушение постулата нормального общения как драматургический прием // Труды по знаковым системам. Т. 5. - Тарту: изд-во Тартуского университета, 1971. - С. 232-254.
- Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. - СПб.: Академический проект, 1995. - 471 с.