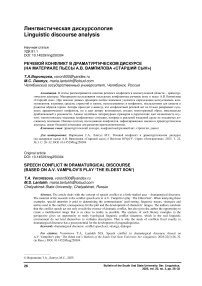Речевой конфликт в драматургическом дискурсе (на материале пьесы А. В. Вампилова «Старший сын»)
Автор: Воронцова Т.А., Лантух М.С.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Лингвистическая дискурсология
Статья в выпуске: 3 т.22, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие речевого конфликта в малоизученной области - драматургическом дискурсе. Материалом исследования послужили конфликтные речевые акты в пьесе А.В. Вампилова «Старший сын». При анализе данных примеров особое внимание уделяется определению целеустановок коммуникантов, языковых средств, стратегий и тактик, использованных в конфликте, последствиям для сюжета и развития образов героев. Авторы приходят к выводу, что конфликтный речевой акт не только раскрывает сущность драматического конфликта, но и дает автору возможность создать многогранный образ, максимально приближенный к реальности. Анализ подобных литературных примеров в перспективе дает возможность изучить типологические языковые конфликтные ситуации, которые в реальной языковой среде не поддаются дословному описанию. Именно поэтому исследование конфликтов, зафиксированных именно в драматургическом дискурсе, имеет большой потенциал для развития прагмалингвистики.
Драматургический дискурс, конфликтный речевой акт, стратегия, диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/147252051
IDR: 147252051 | УДК: 81.1 | DOI: 10.14529/ling250304
Текст научной статьи Речевой конфликт в драматургическом дискурсе (на материале пьесы А. В. Вампилова «Старший сын»)
В современной лингвистике понятие речевого конфликта (конфликтного коммуникативного акта) в основном рассматривается с точки зрения социо-, психо- и прагмалингвистики. По В.С. Третьяковой, «речевой конфликт – это столкновение сторон, состояние противоборства партнеров в процессе общения по поводу несовпадающих интересов, мнений, коммуникативных намерений, которые выявляются в ситуации общения» [15]. Лингвистический анализ коммуникативной составляющей речевого конфликта и способов ее выражения играет важную роль в развитии современной праг-малингвистики. Об этом свидетельствует большое количество работ, посвященных конфликту, разнообразие материала, а также особая практическая ценность этих исследований, которая заключается в описании эффективных речевых стратегий поведения в конфликтном коммуникативном акте.
В современной лингвистике речевой конфликт активно изучается наматериале различных типов дискурса: разговорного (В.С. Третьякова [14], Л.Р. Комалова [7]), политического (Ю.В. Вознесенская [2], Е.В. Сапрыкина [13]), дискурса СМИ (И.В. Коноваленко [8], Е.В. Белова [1]) и т. д.
Одним из основных источников изучения речевого конфликта, представленных в современной лингвистике, является драматургический дискурс. А.В. Зиньковская указывает, что драматургический дискурс «взаимодействует с диалогическим дискурсом в его комбинированной конфигурации – письменно-устной реализации» [6]. Обращение именно к драматургическому дискурсу обусловлено тем, что основой этого речевого пространства является диалог – минимальный предмет исследования лингвистической конфликтологии.
В современной лингвистике на материале драматургического дискурса изучаются различные аспекты речевого конфликта. З.З. Чанышева анализирует невербальное проявление конфликта, в частности, различные проявления проксематиче-ских кодов в прямой речи героев и в репликах автора [17]. А.В. Хруненкова использует драматический материал современных авторов с целью продемонстрировать особенности интолерантных форм речевого общения, присущих носителям русской языковой картины мира. Драматургический дискурс рассматривается как вариант письменной фиксации максимально приближенных к реальности конфликтных ситуаций [16]. Ю.С. Старостина исследует лингвистические способы выражения несогласия на основе англоязычной драматургии. Автор также отмечает, что драматургический дискурс «вполне достоверно отражает черты живого английского языка, поскольку стилизованные диалоги драматургических произведений отражают общую употребительность конструкций в сфере живой разговорной речи» [13].
М.А. Салькова и З.Р. Мамсурова также используют пьесы британских авторов при анализе бытования конфликта в англоязычной лингвокуль- туре. Исследователи подходят к явлению конфликта как к концепту, описывая его типично фреймовую структуру, отмечая при этом «возможность глубокого проникновения в динамику лингвокультуры конфликта англоговорящего народа» [11].
З.Р. Жукаева рассматривает влияние речевого конфликта на развитие британской театральной драматургии. Автор использует синергетический подход, чтобы использовать в анализе совокупность лингвистических и экстралингвистических условий, определяющих конфликт как «сложную саморегулирующуюся систему» [5].
И.И. Гулакова описывает типологию языковых средств, являющихся показателем использования коммуникантами тех или иных речевых тактик в конфликтной ситуации общения. Предложенная классификация на данный момент является основополагающей для всего направления изучения аномальных речевых ситуаций в коммуникативной лингвистике [4].
М.А. Голованева изучает русские политические пьесы ХХ века и на их основе описывает особенности речевого выражения политического конфликта [3].
В работах исследователей встречается как зарубежный, так и отечественный материал. Обобщив полученные выводы, можно утверждать, что с практической точки зрения во всех работах, основанных на выдержках из драматических произведений, за основу взята идея о тождественности речи героев драматического дискурса речи носителей языка, благодаря чему возникает возможность проекции полученных результатов на углубление знаний в области лингвокультурологии языка пьесы.
Как видим, при всем многообразии исследуемого материала в зону внимания исследователей не попали ставшие классическими произведения российских (советских) драматургов второй половины ХХ века. Между тем, драматургические произведения этого периода представляют собой интересный материал не только для литературоведческого, но и для лингвистического, в том числе и коммуникативно-прагматического анализа, поскольку в пьесах известных драматургов данного периода (А.Н. Арбузова, В.С. Розова, А.М. Володина и др.), с одной стороны, представлены реалистичные коммуникативные ситуации, которые реализуются при помощи типичных языковых и речевых средств и могут быть экстраполированы на реальную коммуникацию, с другой – лингвистический анализ речевого взаимодействия героев позволяет понять художественную специфику произведения.
Выбор материала исследования для данной статьи обусловлен тем, что А.В. Вампилов является не просто известным драматургом данного периода, но и автором, пьесы которого активно включаются в современный театральный реперту- ар [10]. Одной из наиболее известных пьес А.В. Вампилова является пьеса «Старший сын». «Пьеса «Старший сын» – своеобразная философская притча; тема семьи, родного крова, любовь к ближнему преподносится в ней в традициях нравственного рассказа, назидательного и поучительного. Семья Сарафановых берётся Вампиловым в качестве модели мира. Основную идею пьесы можно обозначить как поиск человеком нравственных опор, держащих дом и мир любовью человека к другому человеку» [9].
Материалом исследования послужили конфликтные диалоги, представленные в данной пьесе.
Цель нашего исследования – выявить особенности репрезентации речевого конфликта в разговорном диалоге на материале драматургического дискурса середины ХХ века.
Методы исследования: коммуникативно прагматический и стилистический анализ.
Актуальность исследования определяется, с одной стороны, тем, что разговорный бытовой диалог в условиях драматургического дискурса позволяет соотнести специфику речевого поведения коммуникантов с их личностными характеристиками и отношениями, что не всегда возможно в отношении реального конфликтного диалога, с другой – способствует более глубокому пониманию драматургического произведения. Для демонстрации этих возможностей мы выбрали диалоги между Васенькой и Макарской, Васенькой и Ниной как наиболее показательные в данном контексте.
ВАСЕНЬКА. О, кого я вижу!
МАКАРСКАЯ. А, это ты.
ВАСЕНЬКА. Привет!
МАКАРСКАЯ. Привет, кирюшечка, привет. Что ты здесь делаешь? (Идет к деревянному домику.)
ВАСЕНЬКА. Да так, решил немного прогуляться. Погуляем вместе?
МАКАРСКАЯ. Что ты, какое гулянье – холод собачий. (Достает ключ.)
ВАСЕНЬКА (встав между нею и дверями, задерживает ее на крыльце) . Не пущу.
МАКАРСКАЯ (равнодушно) . Ну вот. Начинается.
ВАСЕНЬКА. Ты мало бываешь на воздухе.
МАКАРСКАЯ. Васенька, иди домой.
ВАСЕНЬКА. Подожди… Давай поболтаем немного… Скажи мне что-нибудь.
МАКАРСКАЯ. Спокойной ночи.
ВАСЕНЬКА. Скажи, что завтра ты пойдешь со мной в кино.
МАКАРСКАЯ. Завтра увидим. А сейчас иди спать. А ну пусти!
ВАСЕНЬКА. Не пущу.
МАКАРСКАЯ. Я пожалуюсь твоему, ты достукаешься!
ВАСЕНЬКА. Почему ты кричишь?
МАКАРСКАЯ. Нет, это наказание какое-то!
ВАСЕНЬКА. Ну и кричи. Мне, может быть, даже нравится.
МАКАРСКАЯ. Что нравится?
ВАСЕНЬКА. Когда ты кричишь.
МАКАРСКАЯ. Васенька, ты меня любишь?
ВАСЕНЬКА. Я?!
МАКАРСКАЯ. Любишь. Что-то плохо ты меня любишь. Я тут в кофте стою, замерзла, устала, а ты?.. Ну пусти, пусти…
ВАСЕНЬКА (сдается) . Ты замерзла?..
МАКАРСКАЯ (открывая ключом дверь) . Ну вот… Умница. Раз любишь – надо слушаться. (На пороге.) И вообще: я хочу, чтобы ты меня больше не ждал, не следил за мной, не ходил по пятам. Потому что из этого ничего не выйдет… А сейчас иди спать. (Входит в дом.)
ВАСЕНЬКА (приближается к двери, дверь закрывается) . Открой! Открой! (Стучит.) Открой на минутку! Мне надо тебе сказать. Слышишь? Открой!
МАКАРСКАЯ (в окне) . Не ори! Весь город разбудишь!
ВАСЕНЬКА. Черт с ним, с городом!.. (Садится на крыльцо.) Пусть подымаются и слушают, какой я дурак!
МАКАРСКАЯ. Подумаешь, как интересно… Васенька, поговорим серьезно. Пойми ты, пожалуйста, у нас с тобой ничего не может быть. Кроме скандала, конечно. Подумай, глупенький, я тебя старше на десять лет! Ведь у нас разные идеалы и все такое – неужели вам этого в школе не объясняли? Ты должен дружить с девочками. Теперь в школе, кажется, и любовь разрешается – вот и чудесно. Вот и люби кого полагается.
ВАСЕНЬКА. Не говори глупостей.
МАКАРСКАЯ. Ну хватит! Хороших слов ты, видно, не понимаешь. Ты мне надоел. Надоел, ясно тебе? Уходи, и чтоб я тебя здесь больше не видела!
ВАСЕНЬКА (подходит к окну) . Хорошо… Больше ты меня не увидишь. (Скорбно.) Никогда не увидишь.
МАКАРСКАЯ. Совсем мальчик спятил!
ВАСЕНЬКА. Встретимся завтра! Один раз! На полчаса! На прощанье!.. Ну что тебе стоит!
МАКАРСКАЯ. Ну да! От тебя потом не отвяжешься. Я ведь вас прекрасно знаю.
ВАСЕНЬКА (вдруг) . Дрянь! Дрянь!
МАКАРСКАЯ. Что?!. Что такое?!. Ну и порядки! Каждая шпана может тебя оскорбить!.. Нет, без мужа, видно, на этом свете не проживешь!.. Иди отсюда. Ну!
Молчание.
ВАСЕНЬКА. Прости… Прости, я не хотел.
МАКАРСКАЯ. Уходи! Баиньки! Щенок бесхвостый! (Захлопывает окно.)
Васенька бредет в свой подъезд.
В диалоге Васеньки (младшего сына главного героя Сарафанова) и Макарской (соседки Сарафановых, в которую влюблен Васенька) речевой конфликт обусловлен противоположными целеус-тановками коммуникантов: цель Васеньки – по- общаться с Макарской, установить с ней более близкие отношения; цель Макарской - отказаться от общения с Васенькой. Это противоречие очевидно уже на этапе начальных реплик героев: этикетная приветственная реплика Васеньки Кого я вижу! традиционно используется для выражения неожиданной радости, тогда как речевая реакция Макарской выражает откровенное разочарование и пренебрежение: А, это ты...
Судя по тому, что Васенька нарочно подстраивает «случайную встречу», Макарская уже высказывала ему свою позицию по поводу их отношений. Цель Васеньки - не столько закончить конфликт, который не был завершен при предыдущем разговоре, сколько показать, что он не намерен его продолжать. Очевидно, что если целеус-тановка Васеньки изначально не предполагает деструктивного варианта речевого поведения, то целеустановка Макарской потенциально конфликто-генна, поскольку любой отказ всегда нежелателен для собеседника. Конфликт развивается по мере того, как Васенька осознает это противоречие в целеустановках и не принимает отказ собеседника от коммуникации. Тем не менее он пытается реализовать свою целеустановку при помощи как конструктивных (просьбы, уговаривание, извинение и др.), так и деструктивных тактик (угрозы, императивные тактики, оскорбление). Герой бессистемно чередует эти тактики, по -видимому, до конца не осознавая их влияние на собеседника. Например, просьба Скажи, что завтра ты пойдешь со мной в кино и императив с обоснованием Открой на минутку! Мне надо тебе сказать. Слышишь? сменяется чистым императивом, угрозой Не пущу, Хорошо… Больше ты меня не увидишь. (Скорбно.) Никогда не увидишь , а затем снова мольбой Встретимся завтра! Один раз! На полчаса! На прощанье!.. Ну что тебе стоит! , оскорблениями Дрянь! Дрянь! , извинениями Прости... Прости, я не хотел . На протяжении речевого акта он демонстрирует поведение деструктивного типа личности: развертывает конфликт физическим ограничением собеседника ( Не пущу ), желает подчинить его интересы своим не только с помощью императива ( Скажи, что завтра ты пойдешь со мной в кино ), но и аргумента к жалости ( Больше ты меня не увидишь. (Скорбно) Никогда не увидишь ). Деструктивность поведения поддерживается и юношеским максимализмом в восприятии чувств: герой ведет себя вызывающе ( Пусть подымаются и слушают, какой я дурак!, агрессивно ( Дрянь! Дрянь! ), нелогично ( Встретимся завтра! Один раз! На полчаса! На прощанье!.. ). На синтаксическом уровне восклицательные предложения выражают раздражение героя, который встречает решительный отпор со стороны своего собеседника и который исчерпал все доступные ему аргументы. Такая непоследовательность речевого поведения обусловлена, с одной стороны, тем, что он коммуникативно не готов к конфликту
(т. е. изначально не рассматривал вариант коммуникации с противодействием со стороны собеседника), с другой - возрастными характеристиками персонажа: отсутствием коммуникативного опыта, повышенной эмоциональностью. В отличие от Васеньки, Макарская последовательно реализует стратегию отстранения от собеседника в соответствии с коммуникативной целеустановкой. В исследуемом диалоге конфликтогенность данной стратегии обусловлена тем, что коммуникант (Ма-карская) постоянно эксплицитно или имплицитно подчеркивает возрастное неравенство, занимая при этом позицию старшего по возрасту, т. е. отводя себе доминирующую роль в коммуникативном акте, тогда как целеустановка Васеньки (установить более близкие отношения, вызвать ответное чувство) такое неравенство не предусматривает. Данная стратегия реализуется по отношению к собеседнику как постоянная «игра на понижение»: насмешливые уменьшительные обращения, нарушение коммуникативного взаимодействия и т. п.).
Макарская в этом речевом акте выступает на лидирующей позиции, и ей не составляет труда отражать конфликтогенную агрессию Васеньки. Её речевое поведение конструктивно: хотя она и стремится достичь своей цели, но при этом старается убедить в необходимости этого решения и собеседника. Композиция ее реплик градационна, в отличие от Васеньки, она зависит исключительно от поведения собеседника, а не от эмоций. Она спокойна, внешне даже равнодушна. Её слова и угрозы не воспринимаются Васенькой всерьез ( Я пожалуюсь твоему, ты достукаешься! ). Первый ее аргумент мягкий, имплицитный, психологический: она использует апелляцию к жалости и к чувствам собеседника, стараясь закончить конфликт, не допуская его до критической стадии ( Ты меня любишь? <.> Что-то плохо ты меня любишь. Я замерзла, устала… ). Видя, что собеседник не способен справиться с эмоциями и что ее нежелание вступать в конфликт распаляет его еще больше, Макарская приводит логические аргументы ( …у нас с тобой ничего не может быть, …я тебя старше на десять лет! ) в сдержанной, но поучительной манере с позиции старшего ( Пойми ты, пожалуйста…, Послушай, глупенький… , но и эти слова Васенька не способен воспринимать, поскольку они имеют обратный эффект - напоминают о его молодости, неопытности - о том, что мешает ему быть ведущим в этом диалоге. Терпение и сдержанность Макарской исчерпаны, и она переходит последнему способу завершения конфликта - грубой и прямолинейной речи, показывающей серьезность ее намерений ( Ты мне надоел. <…> Уходи, и чтоб я больше тебя здесь не видела! ), а на оскорбление реагирует зеркально, не принимая извинений, при этом задевая гордость собеседника уменьшительно-ласкательными словами и упоминанием возраста ( мальчик, баиньки, щенок бесхвостый ).
Очевидно, что этот конфликт не может быть решен с помощью компромисса, так как целеуста-новки героев противоположны. Поэтому финал диалога приносит негативные эмоции обоим героям. Макарская, с одной стороны, добивается своей цели: Васенька уходит. Однако в следующем диалоге она уже стремится загладить впечатление от этого конфликта, жалеет, что была слишком строга с ним и оттолкнула от себя ухажера - то есть меняет свою целеустановку. Васенька же, хотя и соглашается с позицией героини, но остается униженным, что не способствует успешной коммуникации в дальнейшем. В результате при следующем конфликте он даже прибегает к угрозе физической расправы: …(хватает ее за руку). Я... я убью тебя! », которую впоследствии попытается привести в исполнение.
Схожее поведение коммуникантов присутствует и в диалоге Васеньки и Нины. Однако здесь Васенька, разозленный итогом своего конфликта с Макарской, сам не готов идти на компромисс. Нина же, как и Макарская, в большинстве конфликтных диалогов пьесы является ведущим коммуникантом и демонстрирует это во всем строе своей речи. В диалоге с Васенькой это опять выражено во взаимоотношении старший - младший; опытный - неопытный.
НИНА. Накатал?
ВАСЕНЬКА. Твое какое дело?
НИНА. А теперь иди вручи ей свое послание, возвращайся и ложись спать.
Где отец?
ВАСЕНЬКА. Откуда я знаю!
НИНА. Куда его понесло ночью?.. (Берет со стола рюкзак.) А это что?
Васенька пытается отнять у Нины рюкзак. Борьба.
ВАСЕНЬКА (уступает). Возьму, когда ты уснешь.
НИНА (вытряхнула содержимое рюкзака на стол). Что это значит?.. Куда ты собрался?
ВАСЕНЬКА. В турпоход.
НИНА. А это что?.. Зачем тебе паспорт?
ВАСЕНЬКА. Не твое дело.
НИНА. Ты что придумал?.. Ты что, не знаешь, что я уезжаю?
ВАСЕНЬКА. Я тоже уезжаю.
НИНА. Что?
ВАСЕНЬКА. Я уезжаю.
НИНА. Да ты что, совсем спятил?
ВАСЕНЬКА. Я уезжаю.
НИНА (присев). Слушай, Васька... Гад ты, и больше никто. Взяла бы тебя и убила.
ВАСЕНЬКА. Я тебя не трогаю, и ты меня не трожь.
НИНА. На меня тебе наплевать - ладно. Но об отце-то ты должен подумать.
ВАСЕНЬКА. Ты о нем не думаешь, почему я о нем должен думать?
НИНА. Боже мой! (Поднимается.) Если бы вы знали, как вы мне надоели!
(Собирает высыпанные на стол вещи в рюкзак, уносит его в свою комнату; на пороге останавливается.) Скажи отцу, пусть утром меня не будит. Дайте выспаться. (Уходит.)
Причин конфликта несколько: во-первых, это накопившееся раздражение обоих участников конфликта, которое ведет к неспособности адекватно оценить и принять мотивы другого человека. Во-вторых, это противоположные целеустановки: Васенька хочет уехать, а Нина ожидает, что после ее замужества именно брат останется заботиться об отце. В-третьих, различие в возрасте обусловливает поучающую интонацию, а повелительный тон со стороны Нины и по-детски дерзкие ответы Васеньки провоцируют обоих не искать способы решения конфликта, а лишь повышают общий уровень раздражения.
Нина раздражена влюбленностью Васеньки, поэтому, застав его за сочинением любовного письма, использует тактику агрессии, которая сначала имплицитно выражается в саркастической интонации, а после получения информации об отъезде Васеньки и вовсе перерастает в открытую форму. В речи Нины часто встречаются просторечия, выражающие насмешливое, пренебрежительное отношение к предмету разговора: Накатал?, Куда его понесло ночью? . Эта интонация легко считывается коммуникантами и становится причиной начала конфликта. Далее Нина сохраняет негативную коннотацию в каждой своей реплике, используя аргументы к силе ( Взяла бы тебя и убила ), оскорбления ( Ты что, совсем спятил?, Гад ты, и больше никто ), императивы ( …об отце-то ты должен подумать ). Также она прибегает к манипуляции в аргументе к жалости ( На меня тебе наплевать ), однако, встречая первое аргументированное сопротивление со стороны Васеньки ( Ты о нем не думаешь, почему я о нем должен думать? ), завершает диалог, так как не намерена объяснять свое мнение, она убеждена, что оно очевидно для собеседника, а эмоциональная сторона конфликта ее не интересует.
Васенька использует конфронтационную стратегию речевого поведения, чтобы продемонстрировать установку против партнера по коммуникации. Его первая резкая реплика (Твое какое дело?) - это закономерная реакция на пренебрежительный тон сестры. Васенька в этом диалоге с Ниной занимает обороняющуюся позицию, поскольку знает особенности агрессивного речевого поведения своей сестры. Он осознает, что его аргументация не будет принята во внимание, но он и не пытается приводить аргументы, которые могли бы раскрыть его чувства, ведь Нина уже не раз начинала конфликт именно с критики его отношения к Макарской. Используя неполные предложения (В турпоход, Не твое дело), Васенька демонстрирует желание уйти от конфликта, повторы реплик показывают, что он не видит смысла в дальнейшем обсуждении его решения (Я уезжаю). В целом его речевое поведение дает собеседнику основание предполагать неаргументированную, эмоциональную основу его позиции.
Как и в диалоге с Макарской, конец речевого акта в данном случае не означает окончание конфликта. Видя упорство брата и не желая разбираться в причинах противоречия, Нина выбирает тактику отстранения и завершает диалог. Каждый участник остается раздраженным словами собеседника, поэтому конфликтогенное поведение сохраняется в речи обоих уже в следующих речевых актах.
Анализ конфликтных диалогов позволяет с лингвистической точки зрения определить целе- установки героев драматических текстов, выявить стратегии и тактики, которые они используют в конфликтном взаимодействии с другими героями. Таким образом, конфликтный речевой акт не только раскрывает сущность драматического конфликта, но и дает автору возможность создать многогранный образ, максимально приближенный к реальности. Подобные литературные примеры, несомненно, являются отражением типологических языковых конфликтных ситуаций, которые невозможно дословно описать в реальной языковой среде. Так, драматический материал имеет значительный потенциал для развития лингвистической конфликтологии и культурологии.