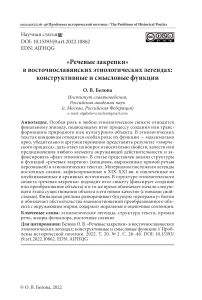«Речевые закрепки» в восточнославянских этиологических легендах: конструктивные и смысловые функции
Автор: Белова Ольга Владиславовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Особая роль в любом этиологическом сюжете отводится финальному эпизоду, подводящему итог процессу создания или трансформациям природного или культурного объекта. В этиологических текстах концовкам отводится особая роль; их функции - максимально ярко, убедительно и аргументированно представить результат «творческого процесса», дать ответ на вопрос относительно свойств, качеств или предназначения любого элемента окружающей действительности и зафиксировать «факт этиологии». В статье представлен анализ структуры и функций «речевых закрепок» (концовок, выраженных прямой речью персонажей) в этиологических текстах. Материалом послужили легенды восточных славян, зафиксированные в XIX-XXI вв. и извлеченные из опубликованных и архивных источников. В структуре этиологического сюжета «речевая закрепка» подводит итог сюжету (фиксирует создание или преобразование объекта) и в то же время обозначает начало следующего этапа существования объекта в его новом качестве (с новыми свойствами). Финальная реплика разворачивает будущую «программу» бытия и обозначает обстоятельства взаимоотношений преобразованного объекта с окружающим миром, содержит моральные и оценочные сентенции.
Этиологические легенды, структура текста, прямая речь, жанры фольклора, восточные славяне
Короткий адрес: https://sciup.org/147237938
IDR: 147237938 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10862
Текст научной статьи «Речевые закрепки» в восточнославянских этиологических легендах: конструктивные и смысловые функции
Этиологические концовки в структуре текста
С татья является продолжением серии исследований, посвященных анализу сюжетов и мотивов, а также структуре и прагматике славянских этиологических легенд (см., напр.: [Белова, 2017а, 2017b, 2018b, 2019]). Задача этиологических текстов в первую очередь состоит в том, чтобы закрепить в фольклорно-мифологической картине мира базовые космологические представления, связанные с устройством мира и социума, зафиксировать культурные и этические константы, объяснить появление и бытование разных элементов традиционной обрядности1. Особая роль в этиологическом сюжете отводится финальному эпизоду, подводящему итог процессу создания или трансформациям природного или культурного объекта. Соответственно, в структуре этиологических текстов значимыми становятся именно концовки, функции которых — максимально ярко, убедительно и аргументированно представить результат творческого процесса, ответить на вопрос относительно свойств, качеств или предназначения любого элемента окружающей действительности и зафиксировать «факт этиологии» («и с тех пор…», «с той поры…», «и от того времени…», «потому и…» и т. п.). Любое исследование этиологических сюжетов, бытующих в разных национальных традициях, так или иначе затрагивает проблему этиологических концовок, поскольку в зависимости от их содержания сюжет (или его вариант) может быть отнесен к категории универсальных или локальных, типичных или уникальных (см.: [Белова, 2018а], [Боганева], [Зудин, 2007, 2013], [Качмар], [Куз нецова, 2017, 2018], [Пигин, 2014], [Усачёва]).
Однако до сих пор не было предпринято специального исследования, посвященного вербальному компоненту этиологических концовок, его речевой (грамматической и содержательной) репрезентации. Таким образом, в этой статье мы рассмотрим структуру и функции «речевых закрепок» в этиологических текстах на материале легенд восточных славян, зафиксированных в XIX–XXI вв. и извлеченных из опубликованных и архивных источников.
Речевое оформление этиологических концовок
Финальный вывод, подводящий итог этиологическому сюжету, может быть встроен в речь повествователя :
[Женщина не показала Богу дорогу или грубо ему ответила, а мужчина ответил вежливо, поэтому у мужчин много свободного времени, а женщины лишены досуга.] <…> От чилов и́ к ник о л ́ и не тор о п ́ ица. А б а б ́ и всигда нем а́ кол и . ́ То жнэ, то м а с ́ ло бье — ўсэ так э́ р о б ́ ит. То ей Бог зроб и́ ў за то, шо она дорогу не указала (Лельчицкий р–н Гомельской обл.)2.
Закрепка может быть передана косвенной речью :
[Черт садится на борону и мешает человеку бороновать, за что превращен в коня.] <…> Тогды Бог сказаў на чорта, штобы ён быў конем — и чорт стаў конём, и з тых пор стали на свеци кони (Гродненская губ.)3;
[Бог за грехи людей уменьшает хлебный колос, коты и собаки просят сохранить колос для них.] <…> колас фсё м е́ нет, м е н ́ ет, а сабака завыў, и Гаспоть сказаў, што будут жыть саб а ч ́ чею и каш ы́ наю долей (Почепский р–н Брянской обл.)4.
Возможно также объединение в одном тексте косвенной и прямой речи, как, например, в контаминированном варианте легенды о проклятии осины и ракиты, давших свою древесину для изготовления иголок, которые мучители забивали Христу под ногти:
<…> То Матэрь Божая заклял а́ , шоб осина (осина вжэ бул а́ большая), и вон а́ заклял а́ шоб те твои лыстья трепеталися от витра и от сонця, шоб завсегд а.́ А от та рок и́ та бул а́ м а л ́ енька — кустарник. И она сказала: «Шоб ты больше не зросл а » ́ . И вот она по сёй день рост э́ так и́ й кустарник (Ратновский р–н Волынской обл.)5.
Особый интерес вызывают случаи, когда финальная закрепка передается прямой речью (демиурга, выносящего свой приговор создаваемому или изменяемому объекту, или героя, которому предстоит пережить превращение).
В корпусе этиологических текстов этот прием встречается довольно часто, что подтверждают современные полевые аудиозаписи. В старых записях и публикациях эти концовки переданы довольно стандартно, как устойчивые речевые формулы, и это дает возможность предположить, что именно эти фрагменты фиксировались собирателем дословно6; таким образом, мы можем говорить о более или менее точной передаче бытовавшего текста7.
Прямая речь персонажа, «ответственного» за факт творения или преобразования, грамматически оформляется глаголами будущего времени или повелительного наклонения (при этом в разных вариантах одного и того же сюжета возможны обе формы); в императивных конструкциях частотны целевые союзы чтоб, каб и формообразующие частицы пусть, хай, нехай и др.
[Бог превращает в змей восставших против него ангелов.] <…> У Бога было много ангелов. Одны были за Бога ангелы. А другие против. Те что хотели ангелы — може, руководить Богом? Так он ўзяў их и скинул. Сказали: «Вы будете ползать по земле ўсю жись и будете людей кусать — кого укуситя, от вас помреть цчеловек. А если не — то будет цчеловек жить» (Велижский р–н Смоленской обл.)8.
[Христос проклинает удода, который своим криком выдал его преследователям.] Попик а́ ч [удод]. Вин согрешиў. Вин, коли Христа ловили, а вин кричаў: «Тут-тут-тут». А Христос каз а́ ў: «Будеш смердючий, як пес» (Иршавский р–н Закарпатской обл.)9.
[Чудесное дерево проклинает стариков, захотевших стать богами.] <…> Пошел старик к дереву. Как услыхало оно эти безумные речи, зашумело листьями и в ответ старику молвило: «Будь же ты медведем, а твоя жена медведицей!» В ту же минуту старик обратился медведем, а старуха медведицей, и побежали в лес10.
[Христос проклинает коней, «выдавших» его преследователям.] Продали его, дак всюду скрыв а́ ўся Исус Хрыстос. И овцы его прятали, и ў к у п ́ и хав а́ ўся — куры его загребли земл е́ й лапами. И ў каровы хаваўся. А ў кони пашоў — кони, значыть, его не прыняли, кони его выдали. Ну, дак он ужэ и сказаў на к о́ ни: «Шоб ты век еў и шоб ты не на е́ ўся никагда!» (Репкинский р–н Черниговской обл.)11.
[Христос ушиб ногу о камень.] Тай тогд и́ закль и́ ў камiньи: «Жиб и́ ви бiльши ни росл и́ !» I ўже вiт т о́ го чис у́ камiньи ни рост е́ (Бучач ский повет, Галиция, ныне в Тернопольской обл.)12. 8 УИМ. С. 142–143, № 188.
-
9 НБ. С. 354, № 717. Сюжет ATU 236 * .
-
10 УИМ. С. 108, № 138 (без указ. места). Сюжет ATU 555.
Если сюжет состоит из нескольких эпизодов, то «речевая закрепка» может присутствовать в каждом из них. Так, в легенде про досуг (см. выше) Бог последовательно озвучивает свое решение:
[Женщине, не показавшей дорогу, Бог говорит:] «Ну каб жа табе и повек не коли было!» <…> [Мужику, ответившему на вопрос, говорит:] «Ну прощай, брати, спасибо табе, дай Бог ў пору справицца, ў пору проклаждацца» (Мстиславский уезд Могилевской губ.)13.
В ряде случаев финальная реплика адресована не объекту, над которым совершается действие, а третьему лицу, как, например, в варианте уже упомянутого сюжета про досуг. О том, какая судьба предназначена мужчине и женщине, Христос сообщает не им, а своему спутнику — св. Петру:
-
<…> Чоловiк i роботу зробить, i буде мати час з другим погово-рити, покурити. А жона все буде в роботi, все щось не встигне зробити (Хустский р–н Закарпатской обл.)14.
В другом варианте Бог посвящает в свои планы одного из героев — мужчину, который уважительно отнесся к просьбе Бога указать дорогу (нелюбезная женщина не удостоена узнать приговор из первых уст):
Ну і ён гэтаму мужчыне і сказаў: «Ну вот, чалавечак, мужчы-не пастаянна і ўрэмя хватаіць, а бабе — ёй век некалі, яна дажа не паднілася мне дарогу не паказала». Ну дык і праўда, бабе ж ей век некалі (Ушачский р–н Витебской обл.)15.
Еще один прием, используемый легендой для фиксации факта превращения, — это финальная реплика, вложенная в уста героя сюжета. В ответ на свое обращение к Богу персонаж получает просимое, как, например, в легенде об утрате «кожаного тела» в результате грехопадения или в легенде, объясняющей иконографию образа Богородицы-Троеручицы:
Адам обратился к Богу и говорит: «Господи! Оставь ты хоть на память кожи живой и вечной моей у детей моих на перстах ихних в память меня. Пусть знают оне, што за грех мой лишены дети мои сей живой и красивой кожи». И Бог послушал Адама и оставил на пальцах коймы — зовем «ногти» (Саратовская губ.)16;
Божая Маці ішла і спасала Сына. Ішла чэряз моря. «Ой, Госпадзі, дай треццю руку!» І Госпад даў треццю руку. І Яна перянесла (Чаусский р–н Могилевской обл.)17.
«Речевая закрепка» может завершать диалог героев сюжета, особенно в тех случаях, когда сюжет полностью укладывается в рамки диалога — как в легенде, объясняющей, почему у рака глаза сзади (рак обиделся, что ему вместо хороших глаз достались лишь маленькие черные глаза, и, вспылив, предложил Богу прицепить их ему сзади; рассердившись на дерзость рака, Бог так и сделал).
Рак стал просить у Бога глаз, а Бох усим раздал глаза, астались у яго анны аборыши. «Ну, куда мне пасадить еты глаза?» — «Эта тваё дела, — торни их хуть у ж…» (Смоленская губ.)18.
Рак <…> так кажа да Бога Найвышшаго: «Такие брыдкие (очи. — О. Б .), ўваткни ў ср ‥ у!» (Волковыский повет Гродненской губ.)19.
[Рак опоздал на раздачу хвостов, и Бог предложил ему вместо хвоста глаза.]
Так ён (рак. — О. Б. ) кажа:
— У срак у запхнi!
Так ён (Бог. — О. Б .) яму ў сраку i запхнуў (Несвижский р–н Минской обл.)20.
[Христос нечаянно наступил на рака и тот осерчал:] «Як ти йдеш? Де маєш очи, що стаєш на мене, чи не в гузици?» — А Христос каже: «За тото, що так до мене говориш, будеш мати вiд нинї очи в гузици, а не в головi!» (Бучачский повет, Галиция)21.
Обратим внимание на такой прием, как сопряжение с финальной репликой цитат (парафразов) из Священного Писания . Эти микроэлементы книжного текста в устном нарративе не только указывают на знакомство носителей «народной Библии» с первоисточником, но и маркируют определенную группу текстов, для которых «библейские» цитаты являются сюжетообразующими.
Таковы легенды о сотворении мира (ср. Быт. 1:1–10):
<…> Господь — дух… Божий нос ы́ ўся над водою, И Господь сказ а́ ў, значыть: «Да станэт суша, и удал ы с ́ ь, вода, в указанныи места», — и назваў Господь воды окы я н ́ амы, мор я м ́ ы и озёрамы, и сказаў Господь: «Да я́ витца суша!» И так яв ы́ лася суша на зэмл и , ́ и сказ а ў ́ : «Пройизойд у т ́ р е к ́ ы по зэмл и , ́ ж ы л ́ ы зем е л ́ ьныи, о, як у чолов и к ́ а кроў б у д ́ э ход ы́ ты, так хай х о д ́ ыть по зэмл и́ р э́ кы!» (Малоритский р–н Брестской обл.)22.
В легенде о Всемирном потопе, отражающей представление о потопе как повторном сотворении мира23, в уста Бога вкладывается реплика, отсылающая к Книге Бытия (Быт. 1:3):
І выпусціў [Бог] усіх жывотных з каўчага і сказаў: «Быў свет
і да будзет свет!» (Лепельский р–н Витебской обл.)24.
Обязательно «цитирование» библейского текста в легендах о грехопадении Адама и Евы и изгнании их из рая, о прокля тии змея (Быт . 3:16, 19; 3:14).
Взял плеть и выгнал с рая их. «Иди, — говорить, — Адаме и Ева, — говорить, — работай до кровяного поту. Ты, Ева, плоди детей себе, ч а д ́ а, а ты, Адам, работай до кровяного поту и корми своих чадов» (русские старообрядцы в Румынии)25.
Гварит Бог до гада: «Ты будесь сьа на чер е в ́ i св о й ́ iм воўоч ы́ ти и пíсок будеш йiсти», а до ж е́ ны гварит: «Ты будеш г боли тв о й ́ i дьiти род и т ́ и», а до Адама гварит: «Т е б ́ е выж е н ́ у з райу и с тв о й ́ ом ж е́ ном Й и́ вом и дам т о́ бi иньшу земльу. Але гльа т е́ бе буде непўiдна, мусиш роб и т ́ и х потьi ч е ў ́ а тв о г ́ о, а будут ти сьа род и т ́ и т е́ рньа и бод а́ кы». А до Йивы гварит: «А ты мусиш прйасти, ж е б ́ ы-с приодьiўа грiшне тьiўо тв о́ йи» (лемки, Подкарпатское воев.)26.
То Пан Езус сказаў на вужа:
— Бэндзеш чолгаць на бж у́ ху! Не бэндзеш на н о́ гах і прох бэндзеш есьці!
І гэтак вуж поўзае на трэбус е́ (Волковысский р–н Гродненской обл.)27.
На основе цитаты из библейского текста может быть смоделирована реплика, обращенная к иному, нежели в первоисточнике, персонажу. Такой прием использован в легенде о том, почему дуб страдает, когда на нем распускаются листья (прикрыл листьями Адама и Еву после грехопадения):
Тогда Бог разгневался на дуб за укрывательство и, изгоняя Адама и Еву из рая, определил наказание и дубу. Еве Бог, как известно, сказал, что она в болезнях будет рождать детей. «И ты, — сказал Бог, обращаясь затем к дубу, — в болезнях будешь распускать свои почки и никогда не распустишь их без моей помощи». И с тех пор дуб при распускании почек страшно страдает, как женщина во время родов (Саратовская губ.)28. Ср.: (Быт. 3:16).
Цитата из Псалтири («Все дышащее да хвалит Господа!» — Пс. 150:6) наряду со стихирами на хвалитех («Всякое дыхание да хвалит Господа») нашла отражение в легенде о том, как царь Давид завершил создание Псалтири. Давид сидел на берегу речки, и жабы своими криками мешали ему, но в ответ на его окрик «Тихо!» огромная жаба сказала человеческим голосом:
— Давидзе! Давидзе! не тилько ти Бога хвалиш, хвал и м ́ о i ми.
А вiн уже дописав: «Всякое диханiе да хвалить Господа». Так що то жаби Бога хвалють (Житомирский уезд Волынской губ.)29.
Согласно другой легенде, люди забыли помянуть в «евангелии» жабу, и она грызла листы в священной книге. «Ворож-ка» разъяснила священникам странное поведение жабы, и тогда старшие священники и сам епископ решили, что надо сказать: «Усьякойи дыханiйи да хвалит Господа»; после этого жаба больше не испортила ни одного листа (Старосамборский повет, Галиция, ныне — Львовская обл.)30.
Эта же цитата включена в речь Ноя, укоряющего ворона, что он не вернулся с поисков земли. Не будучи напрямую связана с сюжетом и с этиологической концовкой, определяющей судьбу ворона, она скорее служит корильной формулой:
-
<…> «Иде ж ты был, воран?» — «Я, — гаварить, — аташол да падла пакливал!» — «Как жа ты ни паслушил? Мы тибе пасы-лали пысматреть вады; ведь всякая душа да хвалить Госпыда! Будь жа ты, воран, как пень гарелый; будь жа у тибе дети гада-выи: как дитей даждешьси — сам акалей!» Ведь как воран даж-детца дитей, выходить, выкормить, — сам акалеить; ведь ани все калеють!31
Среди новозаветных сюжетов обязательно сопровождается цитатой финальный эпизод легенды о благочестивом разбойнике:
Кажэ: «Поменеш, Господзі, во Царствіі і мене Небесном, когда будзеш на Небесах». А Господзь ёму отвеціў: «Отныне будзеш со Мною в Раю». І вон пошоў с Ісусом Хрістом розбойнік в рай (Столинский р–н Брестской обл.)32. Ср.: (Лк. 23:43).
Прямая речь в «закрепках» может содержать элементы рифмы или представлять собой ритмизованную прозу.
[Ласточки отгоняют воробьев, которые приносят гвозди для распятия; за это первые получают благословение, вторые — прокляты.] И сказаў Сус Христос: «Касатоцки, птушки дробныя! Вы миня, Суса Христа, во как жалеете! А положу я, Сус Христос, такое словецушко, кабы да людзям вас не трогаць, не вбиваць, кабы вам, касатушки, стужи во век не видаць! А хто вас забь е ц ́ ь, у того рука отсохнець». А сказаў Сус Христос: «Кабы вам, воробьи, по мец е л ́ и, по стуже лятаць! Кабы вам, воробьи, хлебна-го зерна не видаць, а коли хто вас забьець, на тым греха нетути» (Бельский уезд Смоленской губ.)33.
Ритмика легенды о пр о к ́ лятой осине, которая дала свою древесину для изготовления орудий мучения Христа («нэ пушла ны клёнына, нэ пушла ны дубына, но проклята осына»), очевидно, восходит к поэтическому тексту (постовые песни, колядки с мотивом дерева-предателя)34. Ритмизованной оказывается и «речевая закрепка»:
Він йеі проклев: «Шчоб ты нэ взростала, од вітрыку поўсыха-ла, од вітрыку буйнэнького, от сонэйка яснэйкого, і шчоб трас-лася…» Ну, вобшчэм, вона ростэ, ростэ і трасэтца (Кобринский р–н Брестской обл.)35.
В легенде о хлебном колосе, который Бог решил уничтожить за грехи людей, и о «кошачьем» и «собачьем» хлебе рифма появляется при озвучивании просьбы животных к Богу оставить им колосок на пропитание. В вариантах без прямой речи указывается, что коты и собаки, выпрашивая хлеб, плакали / заплакали, мьявкали, нявкали, гавкали, кавкали, брехали, кричали, верещали, енчили, визжали, явкали, закурнявкали, курлакали, выли / завыли. Когда же включается речевой регистр, слова животных переводятся на человеческий язык, и они начинают говорить в рифму.
Кот и саб а́ ця завыли: «Аставь нам хлеб!» Только кат у́ и саб а к ́ е колос астался (Петриковский р–н Гомельской обл.)36;
То Господь став брати от сп о д ́ а, от з е м ́ ни, так ссуне от низ о́ до верха. И стояв собака и каже: «Гав, Господи, мен и́ став [оставь]». А кот каже: «Няв, а Господи, и мен и́ став». И Господь ст а в ́ и по колоск о в ́ и. И пшеница зр о д ́ у р о д ́ ит по одному колоску (Ратнов-ский р–н Волынской обл.)37.
Рифмовка может возникать и в закрепке, подводящей итог сюжету:
А коты и собаки стали вишш а́ ть, и Бог даў один колосок. [Теперь говорят:] «Ради кот о́ ў, ради собак, а нам не даў бы нияк» (Брагинский р–н Гомельской обл.)38.
Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, это присутствие в этиологических концовках (репликах) фрагментов различных жанров .
Так, в одном редком варианте легенды об аисте (Гуцуль-щина, Яворов — ныне Львовская обл.) аист появляется из оторванной св. Петром пятки черта; рассерженный черт (дїдько) решает, что аист будет поджигать дома тех, кто разорит его гнездо:
Дїдько посварив си з св. Петром. Петро перемiг дїдька; тот утїкав на смереку; Петро ухопив за пйиту да вiдорвав ї. Петро шпурив39, та з сего зробив си бузьок. «Кали так, — каже дїдько, — я пiшлю того бузька твоїм людьим на хату; хто єму гнїздо кине, вiн тому хату запалит»40.
В реплике черта содержится широко известное всем славянам поверье о том, что, если разрушить гнездо аиста, он принесет огонь и подожжет дом41.
В легенде из Галиции (Залищикский повет, ныне Ивано-Франковская обл.), повествующей об изгнании первых людей из рая, Бог дает Адаму заступ и мотыгу и велит работать ради куска хлеба, сопровождая действие виршами:
Каже йому Пан Бiг:
Наж ти, Адаме, рискаль i мотику, Iди робити на хлїба партику!42
Бог как автор афоризма выступает в западноукраинском варианте сюжета ATU 221A «Выборы царя птиц». Маленькая птичка волове очко села на хвост орла и, когда орел взлетел выше всех, взлетела еще выше и получила имя королик , т. е. «королёк»:
А Господь Бог, як тоє увидїв, засьмiяв ся, та сказав: «На фосту короля прилетїв королик»43.
В легенде об Архангеле Михаиле, записанной у старооб-рядцев-липован в Краснодарском крае, говорится о том, что «Михайло-Архангел» был бесом, но Господь покрестил его землей и отправил завершить крещение на Иордан, дав при этом новое имя:
И он, Господь, значит, нареч и л ́ его Архангел Грозный Воевод. И вот, значить: «Святий Архангеле Грозный Воеводе, моли Бога о нас» [Зудин, 2007: 13].
Финальная реплика представляет собой фрагмент широко распространенной в народной среде в XVI — начале XX в. апокрифической «Молитвы Архангелу Михаилу, Грозному воеводе Небесных Сил» (см.: [Зудин, 2007: 11], [Пигин, 2013: 28]).
Смысловая нагрузка «речевых закрепок» , подводящих итог сюжетам, также состоит в том, чтобы обозначить дальнейшее существование объекта в новом качестве — чаще всего как пр о к ́ лятого (наказанного) или благословленного персонажем, которому приданы функции творца.
В варианте сюжета ATU 425M «Змея-жених» по материнскому проклятию дети оборачиваются в лягушку и соловья, сама она становится кукушкой.
Тагда (й)их праклянула мама: «Будьти вы прокляты!» — на этых, на дочку и на сына. Вот и гаварит: «Ты будишь лягушка — всю жизнь тябя будут раздавливать кылясам. А ты — всю жизнь сылавьём будишь петь». А ана асталась кукушкуй. И на этим кончилась сямья. Вот и гаварят, што лягушка — праклёнутая, ана как чилавек. И сылавей паёт — эта сын (Псковская обл.)44.
Проклятие и благословение могут присутствовать в одной легенде, если она объединяет несколько этиологических мотивов. Примером может послужить вариант легенды о том, как Божья Матерь прятала младенца Христа от воинов Ирода: осина трясущимися листьями чуть не выдала беглецов, а лещина укрыла их своими ветками. В результате Бог воздал каждому дереву по его поведению.
I Божанька сказаў [осине]:
— Ты будзiш увесь век трасцiся. <…>
I Божанька сказаў [лещине]:
— У цябе будуць такiя плады ўкусныя, смачныя, з этага твайго дзерава. I ўсе будуць есцi, i после яды нiколi чалавек не наесца тваiх пладов (Полоцкий р–н Витебской обл.)45.
Закрепка обрисовывает судьбу объекта, а иногда предлагает целую «программу» на будущее .
Бог (Христос) наказывает собаку, которая не уберегла заготовки для человеческих тел от происков Сатанаила, испортившего их:
Собаке сказал Христос-от, что «за это тиба люди бить будут, на тибе ездить, гонять, на морозе будешь мерзнуть» (русские в Якутии)46.
Бог определяет, чем заниматься изгнанным из рая Адаму и Еве (пахотой и прядением):
Еще в раю, после грехопадения Адама и Еввы, Бог, изгоняя их, дал Адаму заступ, грабли, сказав: «Иды, Адам, землю загребай». А Евве, дав прялку в руки, сказал: «Иды, Ево, запрядаты» (Винницкий уезд Подольской губ.)47.
Гордый табак, не поклонившийся Христу, как это сделали все другие растения, получил такой приговор:
Бог саш о́ ў на землю и ўсе растении пакланились ям у . ́ Адин толька табак не паклан и́ ўся Богу. Ну, ён прашоў, пасматреў, ўсе пакланились, адин [табак] гордо ста и ц ́ ь. Он [Бог] сказаў ям у : ́ «Тебя будут шчипать, патом, кагда вырастеш, тебе будут лам и ц ́ ь, суш ы ц ́ ь и пал и ц ́ ь. И тот, хто к у р ́ иць, пападёт ў рай» (Калинко-вичский р–н Гомельской обл.)48.
Новая судьба объекта может определяться не только словом, но и сопровождающим слово действием .
Так, во время мучений Христа ему предлагали есть ужей, но Христос дал ужу «пёрышки» (плавники), и тот превратился в рыбу вьюна, пригодного в пищу людям:
А ён говор я : ́ «Не бойтеся, ешьте. Только голов у́ откиньте. Ешьтя». <…> Говорит: «Я… по пирожк у́ [пёрышку] яму укладу, укину, и тады ешьте, не бойтеся. <…> [Когда отец приносил домой рыбу, он вам это рассказывал?] Ну, это рассказывал. «Не бойтеся, это гъвъря, Иисус Христос сказал есть это»49.
Воробью, предавшему Христа, Бог связал лапки — поэтому воробей не хо дит по земле, а прыгает:
…когда Христа на кресте распинали, то он помогал — гвозди в клюве таскал, чтобы гвозди забивать в Христа, и Бог это увидел и проклял воробья, и сказал: «Не будешь ты больше ходить по земле!» — и связал ему лапки невидимой ниткой. С тех пор он не ходит по земле, и его мясо не едят (Москва)50.
Людям Бог не только объясняет, но и показывает, как надо запрягать лошадь, городить забор, молотить цепом.
Гасподь паймал лошадь, запрёг: «Вот вам, — гаварить, — изба, лошадь, упряжь; живитя да мине хвалитя!» Вот мы таперича живём да и хвалим йив о : ́ «Слава тибе, Госпыди! што усё паказал» (Орловская или Воронежская губ.)51.
[Бог] кажа [человеку]:
— Знаеш што? Пайдзi ў лес, нарубай ляшчынкi, вырубай жэрдачкi, пазаганяй тыя жэрдачкi i гэтыя слупочкi, папрыбiвай жэрдачкi i прыбiвай тыя ляшчынкi, i гэто будзе плот (Мостов-ский р–н Гродненской обл.)52.
<…> I Бог з’язав єму два патики [две палки] i каже: «Отак! Отак молоти!» I звiдци цiп взявся (Подолия)53.
И, наконец, моральная составляющая , уже не столько относящаяся к объекту трансформаций, сколько адресованная аудитории. Финальные сентенции задают этические правила, объясняют необходимость соблюдения тех или иных моральных установок.
В финале легенды о превращении неуемных в своих желаниях людей в медведей дед адресует нравоучение внуку:
Внучек и спрашивает: «Дедушка, неужели это правда?» — «Конечно, это басня; чего невозможно, того не желай; от мала будь доволен. Мн огого пожелаешь, последнее потеряешь» (Москва)54.
В другом варианте того же сюжета осуждается человеческая алчность:
И до сих пор там ходит медведь с медведицей. Так вот оно что: бабьему хвосту нет посту. За большим чином погонишься — малый упустишь (Московская обл.)55.
Богата моральными концовками легенда о «кошачьем» и «собачьем» хлебе: за подвиг животных по спасению колоса их нужно кормить хлебом и нельзя обижать.
Господь пошкодов а́ ў и кажэ т ы л ́ ько: «Ну, к э д ́ аю на вас. И хто, к а ж ́ э, вам б у д ́ э дав а т ́ ы, и я том у́ буду дав а́ ты». И трэ йым хл и б ́ а дав а́ ты (Ратновский р–н Волынской обл.)56.
И трэба ката кармиць хлебам у благадарнасць, жалець кату хлеба — грэх. Кажуць: «Ешь хлеб, ты ж у Бога яго выпрасиў» (Речицкий р–н Гомельской обл.)57.
И кажуць л ю д ́ ы: «Нэ б и́ тэ к о́ та, бо ён хлеб у Бога в ы́ просиў» (Ивацевичский р–н Брестской обл.)58.
Покынув для собакы, бо кит казав, шо за мышамы прожывэ, дид мий казав: «Собака выпросыв у Бога хлиба, нэ шкодуйтэ йом у » ́ (Любешовский р–н Волынской обл.)59.
Заключение
В структуре этиологического сюжета «речевая закрепка» подводит итог сюжету (фиксирует создание или преобразование объекта) и в то же время обозначает начало следующего этапа существования объекта в его новом качестве (с новыми свойствами). Финальная реплика разворачивает будущую «программу» бытия и обозначает обстоятельства взаимоот ношений прео бразованного объекта с окружающим миром.
Особую роль играют озвученные в закрепке обстоятельства времени, обозначающие срок действия заклятия, проклятия, благословения (навсегда, на срок жизни объекта, до Страшного суда, пока объект не выполнит наказ творца и т. п.). Прямая речь, завершающая сюжет о сотворении или преобразовании самого ничтожного, казалось бы, объекта, подчеркивает идею, что факт даже самого «малого» творения, как и факт сотворения Вселенной, должен быть подкреплен словом Творца или преобразователя.
Список литературы «Речевые закрепки» в восточнославянских этиологических легендах: конструктивные и смысловые функции
- Белова О. В. Антропоцентрические мотивы в восточнославянских этиологических легендах // Антропоцентризм в языке и культуре / отв. ред. С. М. Толстая. М.: Индрик, 2017. С. 171–184. (а)
- Белова О. В. Животные в русских этиологических легендах: превращения и трансформации // Живая старина. 2017. № 3. С. 38–40. (b)
- Белова О. В. Славянские этиологические тексты: общее и особенное (на примере восточнославянских региональных традиций) // Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики / XVI Международный съезд славистов. Белград, 20–27 августа 2018 г.: доклады российской делегации / отв. ред. А. М. Молдован. М.: ИРЯ РАН, 2018. С. 301–324. (а)
- Белова О. В. Этиология запретов и предписаний в зеркале народных легенд и поверий // Запреты и предписания в славянской и еврейской культурной традиции / отв. ред. О. В. Белова. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2018. С. 246–265. (b)
- Белова О. В. Параметры «уникальности» этиологических текстов: формальные и содержательные критерии // Уникальное и типичное в славянском фольклоре: сб. науч. ст. по мат-лам конф. / сост. А. Б. Мороз, Н. В. Петров, Н. С. Петрова, О. В. Белова. М.: РГГУ, 2019. С. 13–35.
- Боганева A. Беларускія версіі легенды пра колас: варыянтнасць, тыпавыя і рэдкія матывы, геаграфія распаўсюджання // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Вып. 2. Мінск, 2015. С. 171–189.
- Зудин А. И. Христианские легенды старообрядцев хутора Новопокровского // Живая старина. 2007. № 3. С. 11–13.
- Зудин А. И. Этиологические легенды казаков-некрасовцев // Живая старина. 2013. № 3. С. 39–42.
- Качмар М. Cтруктурно-семантична своєрідність українських етіологічних легенд з дендрологічними мотивами // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. Вип. 36. Київ: КНУ iм. Т. Шевченка, 2012. С. 122–129.
- Кузнецова В. С. Почему у ласточки хвост раздвоенный: о мифологическом сюжете в «народной Библии» // Живая старина. 2017. № 3. С. 40–43.
- Кузнецова В. С. Как медведь с Богом говорил: о медведе в легендах фольклорной Библии // Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 2. C. 140–147.
- Пигин А. В. Стих о бесе Зерефере // Живая старина. 2013. № 1. С. 27–30.
- Пигин А. В. Сочинения о чае и самоваре в старообрядческой письменности XVIII–XX вв. // Живая старина. 2014. № 4. С. 34–37.
- Усачёва В. В. Судьба благословенных и прóклятых деревьев в традиционной культуре славян // Этноботаника: растения в языке и культуре / отв. ред. В. Б. Колосова, А. Б. Ипполитова. СПб.: Наука, 2010. C. 130–163.